Изначально представленный ниже материал был
рассчитан в первую очередь на молодых актеров и студентов
актерских факультетов. Как некая перекличка
голосов, установление общих интересов и связей — мол,
вы как там? Мы так-то! А что у вас? Но, в полном соответствии
с общей логикой развития событий при
работе над этим номером, мы получили не совсем то,
что ожидали. Теперь особенно хочется, чтобы, помимо
студентов и молодых актеров, этот материал прочитали
педагоги театральных вузов, руководители театров,
режиссеры, взрослые актеры — словом, все, кто
делает театр сегодня, являя собой живой пример для
тех, кто будет делать его завтра. Перед вами — высказывания
ваших молодых коллег.
Мы опросили несколько человек, закончивших театральные
институты в последние пять-семь лет.
Как складывалась их судьба после окончания вуза,
с чем они связывают свои профессиональные надежды,
чем живут и как вообще сегодня состояться молодому
актеру — это были основные вопросы. Люди,
ответившие на них, очень разные. Учились у разных
мастеров, или живут в разных городах, или это
выпускники одной мастерской, работающие теперь
в разных театрах одного города. Кто-то ушел
из профессии, кто-то существует в ней очень успешно,
а кто-то именно сейчас переживает кризис,
с ней связанный, — словом, разные судьбы. Как меняется
актерский репертуар с переходом в профессиональную
жизнь? Насколько болезненно происходит
этот переход? Как меняются мысли и настроения?
Петербургских актеров мы спрашивали еще и об их
отношении к театральной реформе, проводимой
в настоящее время.
Тех, чьи ответы вы сейчас прочитаете, еще никогда
об этом не спрашивали. Они ничего не знают об ответах друг друга. Тем
показательнее то общее,
что в них есть.

Илья Дель
С 2002 по 2005 год учился в ГИТИСе, на актерском
курсе О. Л. Кудряшова. В 2005 году перевелся
в СПбГАТИ, в 2007-м закончил актерский курс
Г. И. Дитятковского.
Курсовые работы: Лихонин («Яма» А. Куприна,
режиссер Г. Дитятковский), Оуэн («Нужен перевод»
Б. Фрила, режиссер Г. Дитятковский).
В настоящее время стажер МДТ — Театра
Европы. Репетирует роль Сказочника в спектакле
«Снежная королева» в постановке Г. Дитятковского.
Я из театральной семьи. Моему отцу предложили
преподавать в ГИТИСе, а мне — учиться на этом
курсе. В этом смысле была халява — сразу третий
тур. И очень многообещающее счастливое начало.
А на втором курсе папа ушел, и мне стало немного
сложнее. Но если честно — я ушел из ГИТИСа,
потому что проспал генеральный прогон спектакля.
А до этого не пришел на экзамен по речи… в общем,
дважды уже была ситуация, когда мастер собирался
меня отчислять. А у меня в тот момент просто
пропал интерес к учебе. Это был музыкальный курс,
а я вообще-то не поющий. Два раза курс вставал на мою сторону — не надо его отчислять,
он больше не будет! И меня предупредили — еще раз… Причем если первые
два раза это было почти сознательно,
как некий протест, то в третий раз
я совершенно случайно проспал прогон.
Я написал заявление и ушел. Это
был для меня самый страшный момент,
потому что все так хорошо начиналось,
а теперь вдруг — никто и нигде. И поскольку
я всегда мечтал жить в Питере,
а в Москве невозможно было оставаться,
то я уехал сюда. Перевелся с потерей
года на курс Григория Дитятковского.
Доучился. Конечно, все, что было,
очень важно с той точки зрения, что
я смог что-то понять, переосмыслить. Когда я поступил,
то понимал мало, в основном были только эмоции
и рефлексии.

И. Дель в дипломном спектакле «Яма». Курс Г. Дитятковского.
Фото из личного архива
После окончания института мы собирались играть
в БДТ наш курсовой спектакль «Яма», нас взяли
всех на контракт, пообещали малую сцену. Но в итоге мы не собрались. Кто-то стал специалистом
по устройству
тепловых систем, кто-то пошел работать
на склад — надо же на что-то снимать квартиру.
В итоге все развалилось. Съездили раз на фестиваль
со спектаклем — и все. Потом Григорий Исаакович
предложил мне поработать на его новом курсе педагогом.
Я два месяца поработал, после чего попал
в МДТ. Тоже благодаря Дитятковскому — он пригласил
меня в свой спектакль, который сейчас там ставит.
А поскольку это театр, где не бывает приглашенных
актеров, работающих по контракту, пришлось влиться
в труппу. Я там себя ощущаю странно. Сейчас, например,
Дитятковский ушел в БДТ на постановку,
репетиций у нас нет. И нужно по двенадцать часов
сидеть на репетициях Додина. Мы же стажеры,
учимся. И у меня очень непонятное состояние. Это
ужасно сложно, когда ты сидишь и ничего не делаешь — день, второй, третий.
Через неделю ты уже думаешь — зачем я здесь? Зато там очень мощная подготовка.
С утра у нас танец, акробатика, потом учимся
играть на трубах, потом еще что-то, то есть школа
продолжается.
Кто-то может в шестнадцать лет сняться в сериале
«ОБЖ» и считать, что он состоялся. Кто-то с детства
снимался в кино и сейчас уже звезда. А простым смертным…
Если честно, я не знаю. Если бы знал, то, наверное,
сам бы уже состоялся. Состояться для меня —
это, прежде всего, внутреннее ощущение счастья от пребывания в этой профессии, желание этим заниматься,
мнение дорогих людей. Потихонечку я прихожу
к мысли, что в театре буду счастлив, если смогу
самостоятельно работать с группой очень близких
людей, единомышленников. Когда приходишь
в профессиональный театр, часто не знаешь, как
себя вести с тем или иным человеком. И наступает
момент собственного молчания и внутренней паузы.
Закрываешься, может быть, боишься. И все это складывается
в общее напряжение, неудовлетворенность,
сознание собственной ненужности и бессмысленности
профессии вообще. Поэтому хочется делать что-то
свое со своими.
А так, наверное, важен какой-то случай. Меня часто
спрашивают — ты в какой театр хотел бы попасть?
А я не могу ничего ответить на этот вопрос. Наверное,
нет такого театра. Есть отдельные спектакли, какие-то режиссеры, с которыми хотелось бы поработать.
Когда я жил в Москве, мечтал заниматься у Васильева.
Потом очень привлекал Театр. doc, мы туда постоянно
бегали. Вообще, в Москве все время возникали какие-то новые интересные театральные места. В Питере
с этим сложнее.

Андрей Матюков
Закончил СПбГАТИ в 2006 году, курс В. М. Фильштинского.
Курсовые работы: Парис («Ромео и Джульетта»
В. Шекспира, режиссер В. Фильштинский), Ляпкин-Тяпкин («Пролетая над богоугодным заведением»
по пьесе Н. Гоголя «Ревизор», режиссер А. Прикотенко),
Старушка («Ю» О. Мухиной, режиссер Г. Бызгу),
моноспектакль «Яр.Мо. Contra et pro», режиссер
Ю. Васильев.
В настоящее время актер Александринского
театра.
Роли в театре: Петушков («Живой труп»
Л. Толстого, режиссер В. Фокин), Анучкин
(«Женитьба» Н. Гоголя, режиссер В. Фокин), Комарик
(«Муха» по стихотворению И. Бродского «Муха»
и сказке К. Чуковского «Муха-цокотуха», режиссер О. Еремин).
Мне кажется, что мы на курсе внутренне чувствовали
какой-то вектор, но не знали, куда он направлен.
Когда несешься по этому вектору, то захватываешь
с собой все — собственную жизнь, принесенные
стихи, слова мастера, что-то вытаскиваешь из танца, из занятий по речи. И все это перемалывается
и складывается в кузовок. Вениамин Михайлович
всегда этот кузовок проблем мог разобрать. Он всегда
слушает студентов. Ему можно прямо сказать, если
не нравится кто-то из педагогов или произведение,
взятое в работу. И он медленно, но верно прививал
нам: не нравится — полюби. И сейчас, находясь в театре,
я понимаю, что это было очень важно. Потому
что, естественно, не все пьесы, которые предложат,
тебе понравятся, не все роли будут теми, которых ты
ожидал. Еще всегда было дорого то, что вообще характерно
для мастерской В. М., — воспитание не артиста,
а человека. Мы как-то успевали жить помимо
жизни в мастерской, чем-то другим интересоваться.
В. М. каждое утро на мастерстве спрашивал — что сегодня
утром видел хорошего, или красивого, или злого?
И ты потом уже на автомате начинал это искать,
отмечать про себя — как лист упал, чем сегодня изморось
на окне отличается от измороси вчерашней.
И В. М. заставлял это записывать. Был дневник наблюдений
и ощущений.
Меня взяли в Александринский театр посередине
пятого курса, и, конечно, я был захвачен новым.
Неизведанным и в какой-то степени страшным.
В принципе, я не заметил границы, того, что мы расстаемся.
Конечно, мы плакали, понимали, что ничего
не повторится, ни один выход на площадку вместе, не повторится никогда, даже в театре никогда не будет
такого ощущения полета,
когда ты еще безответствен.
Мы дипломы получали,
распивая шампанское
прямо на вручении.
На нас все смотрели
и ругались,
пытались нам
что-то сказать. Но в этом
был кайф, и был курс
Фильштинского,
именно
наш, 2006 года выпуска. Была свобода. Мастер говорил — нужно не только чтобы я делал вам имя,
но чтобы и вы мне делали имя. И мне кажется, оттого,
что мы совпали, мы могли позволить себе эту внутреннюю
свободу.
Возвращаясь к расставанию, повторюсь, что это
как-то не прочувствовалось. Жизнь изменилась. Нас,
пятерых с курса, взяли командой, это спасает, за это
Валерию Владимировичу Фокину большое спасибо.
Если бы я попал сюда один… Я бы, наверное, ушел.
Что касается изменений с приходом в театр… Это,
конечно, лавина, которая сметает все, и ты не понимаешь,
где ты и кто, тебе кажется, что тебя учили неправильно.
Сначала страх. Огромный страх. Потому
что есть огромная сцена, которая существует по своим
законам, они не совсем совпадают с тем, что можно
назвать школой Фильштинского. С этими законами
трудно справляться, все валится из рук. Кажется,
что ты бездарен, здесь не стоит быть, этим не стоит
заниматься. Страх перерастает в панику. Ты мечешься,
бежишь к мастеру. А репертуарный театр,
по большому счету, это завод. И кто-то сделает хорошую
деталь, кто-то хуже, но на заводе главное —
делать детали. Я имею в виду роли, даже маленькие.
И это спасает. В. М. учил этому. Потом из паники
начинает что-то возникать. Или не возникать.
На сегодня я могу сказать, что мне удалось это преодолеть.
В основном, благодаря людям, даже не из театра, которые возникают в жизни и которые поддерживают,
например Юрий Андреевич Васильев.
Спасает то, что В. М. позвал меня на его нынешний
курс преподавать наблюдения, я остаюсь в критериях
школы. Работать в театре интересно, очень — что с Терзопулосом в «Эдипе», что с Валерием
Владимировичем Фокиным, что с Олегом Ереминым.
Это какие-то опыты, которые позволяют «перевернуть» школу. Это как со стаканом — прежде чем его
перевернуть, его надо взять. Мне кажется, если школа
взята, ее можно переворачивать в работе с другими
режиссерами. Не скажу, что наша школа — универсальный
ключ, но стакан взят, это точно. Теперь
можно его вертеть, наливать воду, выливать. Каждый
раз ты попадаешь в новое русло, и каждый раз новая
работа и новый режиссер — это свой метод.

А. Матюков в моноспектакле «Яр.Мо. Contra et pro».
Фото О. Кутейникова
«Яр.Мо»? Я не считаю его спектаклем, это высказывание.
Это то, что я говорю о себе и своем поколении.
За что я этому спектаклю благодарен — это, во-первых,
за встречу с Юрием Андреевичем Васильевым.
Без него спектакля не было бы, никому бы даже в голову
не пришло этим заниматься, я был бы послан
трехэтажным матом, если бы принес этот материал
кому-то, кроме него. Вот я говорил про вектор и про
кузовок, куда все складывается. Наступает момент,
когда в тебе много всего, а куда это приложить, ты не понимаешь, в этом кузове ничего не разложено, все
скинуто в кучу. А Юрий Андреевич пришел и стал мне
все по полочкам раскладывать. Он стал говорить — что ты здесь, что ты там, что ты в театре, что ты для
театра, что ты можешь в театре, чего не можешь, но должен сделать. Я не ожидал, что спектакль наделает
столько шума. Я понимаю, почему его закрыли
в Академии. Это было и предательство, и боль, и сила
за счет этого возникала грандиозная. Про что спектакль…
Про то, что мы никому не нужны. Поколение,
которое никому не нужно. Тебя посылают в задницу,
а ты этого даже не замечаешь иногда. И это страшно.
В этом году ушли такие люди… Лавров, Ростропович,
Дмитриев. Таких больше нет и не будет. А мы не такие.
И в спектакле я хотел сказать — да, мы не такие,
но мы другие, и примите нас! Такими, какие мы есть.
Мне кажется, что в итоге слабее оказался тот, кто не смог выслушать этот материал до конца. Грубо говоря,
я посылаю зрителя в жопу, когда играю этот
спектакль, беру его в союзники и одновременно обвиняю.
Потому что надо бросить вызов, если хочешь,
чтобы люди начали размышлять. Всегда хочется сломать
в зрителе стереотип. Поэтому возник скандал.
Гибель театра, как мне кажется, в том, что он становится
стереотипным. Ты идешь на спектакль какого-то режиссера и внутренне уже знаешь, представляешь,
каким он будет. Это страшно. Ты представляешь
себе, как будешь спать. В театре часто ведь спят,
такая стоит стена.
Андрей Михайлович Прикотенко на пятом курсе,
когда мы выпускали «Ревизора», сказал — вы понимаете,
что вы поколение в театре? Вы — новое поколение,
которое придет в театр. Что вы будете говорить?
Вы должны поймать себя на этом. Потому
что пройдет какое-то время, и вы начнете отходить
от школы. Только сейчас я начал понимать, о чем он
говорил, второй год работая в театре. Вообще, все
должно быть так, как должно быть. Если тебя ругают,
ты боишься, у тебя паника, значит, это для того,
чтобы ты стал сильнее и сделал из этого выводы, а не ушел в подполье. Не говорю, что нужна революция,
она и невозможна в репертуарном театре. Но надо
с собой все время что-то делать, со своим поколением,
и подключать каких-то людей.
Что касается поколения… Я верю, что мы что-то
можем сказать. Но вот смотрю на курс Кудашова,
на спектакль «Маугли», и понимаю, что уже они начинают
говорить! Хотя мне всего двадцать четыре.
Страшно, что пройдет десять, тридцать лет, а ты будешь
все в том же театре и все будешь ждать возможности
что-то сказать.
Свои надежды я связываю с театром. С Олегом
Ереминым, мы из одного гнезда выпали, я в него
верю. С Юрием Андреевичем.
Как состояться молодому актеру… Надо прежде
всего задать себе вопрос — а мне это надо? Знаете почему?
Может быть, это парадокс, может, даже обидно,
но я скажу. Они состоятся, если захотят состояться.
Опять же, многие скажут — тебе хорошо говорить,
ты устроен, в хорошем театре на хорошей зарплате
сидишь… Я иногда встречаю людей с нашего курса,
которые не в театре, и вижу, что они счастливы,
они состоялись — в своем ребенке, в музыке, в любви.
И для них это важно. То есть я уверен, что они
переживают, но они состоялись. Цель должна быть
выше. Потому что сам вопрос «как состояться?» подразумевает,
что ты кому-то что-то должен. А должен
ты только себе. Ты себе должен доказывать, что ты
человек, в себе открывать человека.

Наталия Высочанская
Закончила СПбГАТИ в 2006 году, курс В. М. Фильштинского.
Курсовые работы: Сестра («Ю» О. Мухиной, режиссер
Г. Бызгу), Шут («Ромео и Джульетта»
В. Шекспира, режиссер В. Фильштинский), моноспектакль
«Я — актриса?..» (спектакль — лауреат фестиваля
«Монокль» 2007 года).
С 2006 по 2008 год — актриса театра-фестиваля
«Балтийский дом». Из театра ушла по собственному
желанию.
С 2007 года сотрудничает с театром «Приют
Комедианта».
Роли в театре: Сюзанна («Безумный день, или
Женитьба Фигаро» П. Бомарше, режиссер В. Крамер,
театр-фестиваль «Балтийский дом»), Мать
(«Человек-подушка» М. МакДонаха, режиссер
А. Коваленко, «Приют Комедианта»).
У нас был безумный курс. Мы были очень разные.
Каждый сам по себе, но когда нужно было собраться
вместе и выдать — моментально сбивались в команду.
После выпуска, в принципе, все ребята занимаются
профессией — кто-то в кино, кто-то в театре,
работает на корпоративках — без этого никуда не денешься. Есть желание создать свой театр.
Пока на уровне слов, но желание такое есть. Я заметила, что
после выпуска мы все, так или иначе, работаем со своими.
В «Балтийский дом» мы пришли с моим однокурсником
Сашей Передковым, там были «Фарсы», тоже
выпускники нашего мастера. Мы попали в компанию
своих людей. Ребята в «Приюте Комедианта» тоже работают
командой. Я думаю, сейчас, поработав в разных
местах, мы уже понимаем, что нам лучше собраться
вместе и делать свое дело. У нас, как мне кажется,
несколько другое воспитание, другой вкус. Мы
друг друга понимаем по-другому, нам не надо ничего
словами объяснять. Театр, который сейчас есть, —
это не наш театр. Это завод. А нас этому не учили.
И непонятно, зачем мы провели пять лет в Академии,
если это никому не нужно. Разочарования в мастере,
тем не менее, нет. Я благодарна ему за то, что он научил
нас — режиссер и артист это все-таки коллеги,
а не кукловод и кукла. За то, что научил оправдывать
все что угодно, работать в любых условиях, над собой
и над ролью. А еще за то, что он привил нам вкус к хорошему
театру. Для меня хороший театр тот, в котором
зритель не уходит со спектакля с холодным носом.
Если я сижу на спектакле и плачу или смеюсь —
для меня это хороший настоящий театр. Когда человек
приходит и понимает, что эта история про него, про
его друга или ситуация похожая, и находит для себя
какое-то решение. Сейчас в моей жизни такой период,
что я не люблю театр. Я не понимаю, что происходит,
и не хочу в этом участвовать. Артист сейчас как мартышка
в зоопарке. Заплатили деньги, чтобы на него
посмотреть, пришли, посмотрели и ушли.

Н. Высочанская (Сюзанна). «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Театр «Балтийский дом».
Фото Ю. Богатырева
На четвертом курсе я выпустила моноспектакль,
поиграла его еще на пятом, а потом
пришла
с ним в театр
«Балтийский
дом». Мне повезло,
что я, только попав
в театр, познакомилась
с Виктором Крамером
и он меня взял в работу.
А первая работа была
в спектакле «На дне»
Егора Чернышова. Это
была, конечно, бомба
для организма. Никакого
процесса. А с Крамером
было интересно. Потому что человек размышлял, придумывал
вместе с нами. Он до сих пор что-то переделывает,
спектакль — не конечный продукт, он постоянно
его дорабатывает. И для меня это история личная,
я себя открываю в этой истории. И зрители приходят,
они радуются, получают какой-то позитив, говорят —
большое спасибо, как это здорово — любить! Я понимаю,
что сейчас должен сделать, чтобы сохранить свою
любовь! Это самое ценное. Не надо денег, цветов, самое
ценное — это энергообмен, когда чувствуешь взгляд
человека в зале, чувствуешь, что он тебя понимает
и о себе что-то понимает тоже. Такой театр я люблю,
таким хочу заниматься. Поэтому я и ушла сейчас из
«Балтийского дома».
Мне там до определенного момента жилось, в общем-то, неплохо. Было очень много работы. Не скажу,
что мне доставляло большое удовольствие все, что
я делала, но все-таки работы было много. Когда началась
театральная реформа и нас всех собрали, я сначала
ничего не поняла. После этого собрания я так бы
и ушла, если бы не возник некий спор. Умные люди
стали задавать конкретные вопросы. О социальных
гарантиях, о заработной плате… На них последовала
весьма агрессивная реакция руководства. Потом возник
вопрос со стариками. Что делать тем, кто по состоянию
здоровья не может быть задействован в достаточном
количестве спектаклей? На что прозвучал
ответ — театр не богадельня, и мы не обязаны вас содержать.
Как это? Человек сорок лет проработал в театре,
был в нем звездой, сейчас по возрасту не может
делать то же самое — куда его? Хорошо, если у него
есть семья, которая может его обеспечить, но в театре
очень много людей одиноких. Например, актриса
Елисеева живет совсем одна. Летом ее сократили
с формулировкой «не соответствует занимаемой
должности». Я видела, как она каждый день приходила
в театр, плакала, умоляла Шуба ее оставить. В ее
адрес летели грубости: «Что ты истерикуешь? Время
прошло!» Как это?!
Началась борьба артистов с руководством. Я не принимала участия в этой борьбе, пока не зашла на сайт в интернете,
где прочитала высказывания господ Шуба и Бурова об артистах. Что это куклы, что это никому
не нужное сырье. Я почувствовала себя лично оскорбленной,
и меня, естественно, понесло.
Я сразу попала в опалу. У меня начались конфликты
с некоторыми людьми из администрации театра,
которые меня до этого как-то оберегали. Я поняла,
что меня обманывали, что те, кому я доверяла, заодно
с руководством. Меня понесло еще больше. Я высказалась
и под каждым своим словом готова подписаться
и сейчас. Когда от меня отошли эти, так скажем, покровители,
меня начали «жрать». Художественный руководитель
начал строить мелкие козни, сплетни про
меня распускать, сталкивать меня с артистами. Стал
меня пихать во все свои работы. Я начала давать отпор.
А потом Сергей Григорьевич Шуб сделал умный ход.
Он сказал, что те, кто захочет, смогут остаться в штате,
а на контракт могут перейти желающие. И вдруг артисты
затихли. Воевали-воевали, а потом вдруг раз —
и все. Я говорю: «Ребята, вы что, не понимаете, что это
им выгодно! Нельзя молчать! Вам показали, кто вы такие,
и вы согласились!» И так как я не успокаивалась,
на меня стали давить еще больше. С каких-то работ
снимали, перестали знакомить с новыми режиссерами.
От одного знакомого режиссера я узнала, что худрук
вызвал его в кабинет и сказал: «Ты знаешь, что артистка
Высочанская отказалась играть в твоем спектакле?
Сказала, что ей на фиг это не надо». А для меня
этот спектакль был самым дорогим. Ладно, Бог с ним,
если ему нравится такими мелкими пакостями заниматься — пусть занимается. Но такая ситуация не у меня одной.
Людей, которые остались в штате и отказались
переходить на контракт, стали давить ненужными
репетициями. Люди приходят, повторяют текст,
включаются. Приходит В. А. Тыкке, пару минут смотрит
и всех распускает. А зачем вызывал? Или артисты
приходят на репетицию, а ее вовсе отменяют. И такое
происходит постоянно. Люди никуда не могут уйти зарабатывать.
При этом получают пять копеек. В результате
после Нового года работают те, кто безоговорочно
перешел на контракт. Сколько они получают, я не знаю,
но точно знаю, что договоры у всех разные.
После Нового года у меня был выпуск в «Приюте
Комедианта». Естественно, в театре об этом все знали,
за полгода были направлены бумаги в «Балтийский
дом», шли переговоры. Обычно артистов отпускают
на выпуск спектакля в другом театре за неделю-две. Но тут худрук, мило улыбаясь, сказал мне: «Тебе
же предлагали перейти на контракт, а ты не захотела.
Сейчас могла бы распоряжаться своим временем.
А теперь будь любезна ходить на репетиции в свой театр». Так как я уже месяца два была в состоянии нервяка,
мой организм дал сбой, я заболела и ушла на больничный. У нас же в театре решили, что я взяла
больничный для того, чтобы репетировать в другом
месте. И начались звонки в «Приют», крики и сплетни,
какие-то подметные письма — в общем, ужасная,
мелкая гадость. Вопрос был не в дисциплине и уж тем
более не в творчестве. Вопрос был в том, что молодая
актриса осмелилась подать голос и защищать себя.
Именно поэтому я так подробно рассказываю об этом.
Мы никому не нужны, понимаете? Об нас можно вытирать
ноги. Личность никому не нужна. Зачем нас
тогда учили?

Алена Бондарчук
Закончила Екатеринбургский государственный театральный
институт в 2006 году, курс В. В. Кокорина и З. И. Задорожной.
Курсовые работы: «Сейчас еще нигде пока уже
опять» по одноактным пьесам Л. Петрушевской (актерская
работа в пьесе «Любовь»), звезда курсовых капустников.
Сезон 2006/07 года работала в Саратовском ТЮЗе им. Ю. Киселева.
В настоящее время актриса Нижегородского ТЮЗа.
Сейчас я работаю в Нижегородском ТЮЗе, со своим мастером… Пока ролями похвастаться не могу, занята в двух
спектаклях: «Слон Хортон»
(один из клоунов) и «Как пройти в Вифлеем?», это
вообще кукольный спектакль, я работаю с куклой
Нянюшки, интересно, конечно, очень, но это не совсем мое.
Живу, жила и буду, надеюсь, жить только театром,
своими друзьями, родителями и людьми вообще!
Люблю людей, они никогда не перестают удивлять,
вообще иногда кажется, что я принадлежу не себе, а людям! Мне с ними как-то интересней, чем
с собой, ну, конечно, и с собой иногда разобраться
полезно, но это сложнее… И, конечно, мое основное
время занимает театр и вечный поиск себя
в нем! Как у всех, у меня постоянно возникают сомнения,
но не по поводу «мое — не мое». Нет, я уверена,
что только это мое, я загнусь без этого. То есть
смогу, конечно, но не хочу!!! Сомнения возникают
такие: а что я могу дать? Что я могу рассказать такого?
Чем я могу поделиться?! Театр-то мне, безусловно,
дает очень много, он мне дает жизнь! С чем
я связываю свои надежды? Ничего конкретного.
Повторюсь, с театром! Хочу жить интересно, хочу
жить интересно в театре! Я его люблю и хочу, чтобы
он меня полюбил тоже! И все мои перспективы
зависят только от него!
Как и где состояться молодому артисту? Я не могу точно сказать, ведь пока я работала и работаю
только в репертуарном театре, я не знаю, как
это — самостоятельно делать что-то со своими друзьями,
но, наверное, это очень интересно. Позвали
бы, я б с удовольствием попробовала.
Так что я не знаю, какая форма может быть перспективнее.
Но ведь, по сути, это не важно, главное,
чтобы это было интересно, заразительно! Чтобы
я смотрела и понимала, что люди этим болеют!
И что говорят, не боясь, о том, что болит у многих,
или, напротив, о том, что радует многих, и так далее.
Хотя в репертуарном театре так существовать,
безусловно, сложнее.
Я год жила без своего мастера, это был не самый
простой год в моей жизни. Меня «выбросили из
лодки» и предстояло понять — а умею ли я плавать?
Я так и не поняла, но вроде не утонула… И вот через
год я снова возвращаюсь на «корабль», к мастеру
и понимаю, что тут, в принципе, все так же… А я-то
ведь уже в воде побывала, одна, без него. И он для
меня теперь что-то отдельное, такое же любимое,
вызывающее трепет и уважение, но я от него отлепилась,
и он мне это позволил. И я ему безумно благодарна
за все, все, все! Я это только сейчас сформулировала…
Мне кажется, главное не бояться ничего, не бояться
ошибаться! И ни за что не успокаиваться!
Этому меня дядька научил точно! Ведь только так
мы становимся сильнее, мудрее и интереснее!

Сергей Агафонов
Закончил СПбГАТИ в 2005 году, курс Г. М. Козлова.
Курсовые работы: «Легкое дыхание» и «Темные
аллеи» по рассказам И. Бунина, режиссер Г. Козлов,
Треплев («Чайка» А. Чехова, режиссер Г. Козлов), Котэ
(«Наш Авлабар» по пьесе А. Цагарели «Ханума», режиссер
А. Кладько), Тузенбах («Три сестры» А. Чехова,
режиссер Г. Козлов), Аркадий («Облом OFF» М. Угарова,
режиссер Д. Егоров).
С 2006 по 2007 год — актер ТЮЗа им. А. Брянцева.
Ушел по собственному желанию.
В настоящее время сотрудничает с разными театрами
Петербурга.
Роли в театре: Гарольд («Гарольд и Мод» К. Хиггинса, Ж.-К. Карьера,
режиссер Г. Козлов,
театр Комедии им. Н. Акимова,
лауреат
премии «Золотой софит»
в номинации лучший дебют
сезона 2005/06 г.),
Есенин («Есенин», балетмейстер
Ю. Петухов, Балет
Леонида Якобсона),
Лобышев («Пенелопа» по одноименному рассказу
А. Битова, режиссер
Г. Козлов, проект Международной Ассоциации «Живая
классика»).
Режиссерская работа: «Улыбка Джоконды», моноспектакль
Романа Габриа, артиста театра
«Дерево», независимый проект.
После окончания вуза меня сразу пригласили в театр
«Русская антреприза», играть в «Нахлебнике».
Пришел, познакомился, репетировал. Но после премьеры
отношения с руководством театра не сложились.
Это был интересный опыт — работа в профессиональном
театре, да еще в антерпризе, все так…
жестко. Я совсем потерялся. Актеры работали «вполноги», а я разминался, как дурак, перед каждой репетицией.
Потом была огромная удача, мастер позвал
меня в свой спектакль «Гарольд и Мод», с Ольгой
Антоновой в главной роли. Мы репетировали три месяца,
Ольга Сергеевна мне много помогала, и коллектив
был классный. Я очень много для себя открыл,
хотя все равно как студент работал — предлагал,
пробовал, говорил «друзья, давайте соберемся!».
Актеры относились ко мне хорошо, вообще там сложилась
студийная атмосфера. Когда спектакль выпустили,
я был уверен, что никогда не пойду работать
ни в какой театр. Потому что был наш курс, хотелось
остаться вместе и я просто не представлял,
как я буду работать в штате какого-то театра, в новом
коллективе, со взрослыми актерами. Мне нравилось,
что я прихожу в театр, играю свой спектакль,
а потом выбираю то, что хочу. Но затем случился
ТЮЗ. Потому что туда стали потихоньку собираться
наши, взяли уже пять моих однокурсников. Мы тогда
с Олегом Абаляном и Ксюшей Морозовой решили,
что пойдем в ТЮЗ втроем, а если уйдем, то тоже
втроем. И это был крах. Можно было его предвидеть,
но попробовать стоило. Мы почти сезон отработали
в театре, и сказки играли, и срочно вводились в спектакли.
Но жить там оказалось невозможно. Слишком
это был… театр. Такая сложная и долгая история каких-то внутренних отношений, которую мне никак
не развязать. Можно было бы изменить ситуацию со своей бандой, но нас было мало. Да и работы, такой,
за которую можно держаться, которую мы сделали
бы, например, только силами своего курса, не было.
Мы вводились, играли чужие роли в скучных спектаклях.
Иногда просто не было сил смотреть в зал,
потому что я понимал: дети «секут», что мне неинтересно.
И мы ушли, как договаривались, вместе.

С. Агафонов (Гарольд). «Гарольд и Мод». Театр Комедии им. Акимова.
Фото В. Гордта
Как состояться молодому актеру? Перед окончанием
вуза нужно очень конкретно решить, что тебе
надо. Нужно посмотреть все театры, узнать всех режиссеров,
увидеть, что они делают. И выбрать, и долбить
очень осознанно в эту стенку. Потому что если
ты просто вообще показываешься в театре, то потом
думаешь — куда я пришел? Кто я здесь? Нужно понять — меня именно в этом театре не хватает. Тогда
ты сделаешь все, чтобы попасть туда, и если попадешь,
то сразу займешь свое место. С другой стороны,
необязательно работать в штате какого-то конкретного
театра. Для меня первый год после окончания
вуза, когда я пробовал разное и при этом не
зависел от штатного расписания, был самым интересным.
Мы сейчас с Ромой Габриа, моим однокурсником,
делаем свой театр, будем его официально оформлять.
Но сначала нужен спектакль, чтобы его кто-то увидел.
Репетируем «Баралгин», скоро премьера. Это
совсем другой какой-то театр. Мне кажется, того, что
мы делаем, сейчас в Питере нет. Иногда думаешь —
а будет ли это интересно еще кому-нибудь? Не знаю,
надо попробовать. То, что я умею в драматическом
театре, мне помогает. Сначала хотелось вообще все
старые наработки убрать, оставить только пластику,
танец, а сейчас я понимаю, что нужно подпитывать
одно другим. Мне сейчас так интересно играть
«Гарольда», «Пенелопу», я чувствую в себе силы заниматься
и тем и другим, мне все интересно. Но в начале
пути, наверное, разбрасываться не стоит. Нужно
хотя бы на год окунуться в конкретный театр, чтобы
понять, твое это или не твое.
Петербургская театральная реформа меня никак
не задела. Конечно, если бы я работал в театре, это
бы меня коснулось. Знаю, что кого-то уволили, кому-то плохо… И все.

О. Лисенко (Новенькая). «Зимы не будет». Саратовский ТЮЗ Киселева.
Фото из архива Е. Гороховской
Ольга Лисенко
Закончила Саратовскую Государственную консерваторию в 2005 году.
В настоящее время — актриса Саратовского
ТЮЗа Киселева.
Роли в театре: Буратино («Золотой ключик» по сказке А. Толстого, режиссер Т. Асейкина), Маленький
принц («Маленький принц» А. Сент-Экзюпери, режиссер
Ю. Ошеров), Новенькая («Зимы не будет»
В. Ольшанского, режиссер Е. Гороховская).
Я поступила на курс Юрия Петровича Ошерова.
Три с половиной года проучилась. А заканчивала вуз
спустя почти шесть лет. Так получилось, что ушла,
меня «расколбасило», многим это знакомо. Шесть лет
я… вела очень насыщенную жизнь. А потом все-таки
вернулась и в театр, и в вуз, на курс Риммы Ивановны
Беляковой. В дипломных спектаклях не участвовала,
потому что на меня не рассчитывали, взяли, чтобы
я все-таки смогла получить диплом. С третьего курса
я играла в Саратовском ТЮЗе в спектакле «Золотой
ключик», так что вернулась в театр сразу на роль.
Сегодня я живу семьей, любимой ролью. В данный
момент я не вижу себя в театре, чувствую себя лишней,
что ли. Сейчас ставится много взрослых спектаклей,
в которых я не занята. Может, все изменится.
Но уже не один раз мелькала мысль уйти. Удерживает
меня то, что мои роли играть некому, я одна травести
в театре. А еще — мне нравится выходить на сцену,
я ловлю от этого кайф, я ищу, мне интересно. Все,
что происходит до и после выхода на сцену, уходит на второй план. Можно сказать, что в театре меня удерживает
театр.
Я не загадываю на будущее. Есть любимый спектакль,
я прихожу, играю его, потом иду домой ждать
следующего. Я не строю никаких планов. Наверное,
боюсь.
Как сегодня состояться молодому актеру? Может,
должны сойтись звезды. Должен найтись режиссер,
который увидит что-то в актере, партнеры, которые
будут его слышать… У нас в городе нет независимых
театральных коллективов, каких-то самостоятельных
работ. Мне это было бы очень интересно. Но где взять
время? У нас бешеная загрузка. А вообще нужно искать,
постоянно искать что-то свое. Мне жаль, что я не
могу сейчас куда-то сорваться и что-то попробовать
новое. Я по-настоящему знаю только одного режиссера,
я ничего не видела. Во время обучения были какие-то пробы, но я не понимала, что делаю. Мне было
бы интересно поработать с кем-то еще, с Григорием
Семеновичем Цинманом, Сергеем Пускепалисом.
Мне кажется, чтобы репертуарный театр ожил, нужно,
чтобы туда приходило много режиссеров, с новыми
идеями, «свежей кровью». Должен быть, конечно,
главный, кто поддерживает традиции, ведет основную
линию. Но когда театр бесконечно варится в своем
соку, он изживает себя и в нем становится ужасно
неинтересно. И даже если в него приходят молодые
актеры, они быстро вянут, скатываются в рутину.

А. Кривега (Пашка). «Прошлым летом в Чулимске». Саратовский ТЮЗ Киселева.
Фото из архива Е. Гороховской
Алексей Кривега
Закончил Саратовскую Государственную консерваторию
в 2005 году, актерский курс А. Г. Галко.
Курсовые роли: Пашка («Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова, режиссер А. Галко), Влас («Дачники»
М. Горького, режиссер А. Галко).
В настоящее время актер Саратовского ТЮЗа
Киселева.
Мне не пришлось показываться в ТЮЗе, потому
что мы там играли
дипломные спектакли.
Когда я пришел,
меня уже знали и сразу
взяли. Потом было разное. В нашем театре на отсутствие
работы пожаловаться нельзя, мы загружены «от
и до». Иногда из-за этого возникает некоторая перенапряженность,
чувствуешь, что нужен отдых. Но на самом деле, когда у актера много работы — это хорошо,
что бы кто ни говорил. Я работаю третий сезон, и были разные ситуации, взлеты, падения, победы, поражения.
У меня примерно пятнадцать ролей. Играю
каждый вечер, бывает, утро и вечер, бывает — утро-день-вечер. Но вот — живой.
До того как я поступил на актерский факультет,
я занимался боксом. И был такой грубый, тело
совершенно неразмятое. Стоял у станка, мучился.
Наверное, первым толчком было то, что у меня не получалось.
Я начал работать. И потом, на втором курсе,
Наталья Петровна Горюнова, наш педагог по классике,
вдруг сказала: «Что-то странное происходит, у тебя
тело становится похоже на тело танцора…» А потом
какие-то вещи у меня начали получаться выше среднего.
И мне уже стало интересно, я стал смотреть современный
балет на DVD, познакомился с творчеством
Бежара, потом к нам приезжали из Екатеринбурга
«Провинциальные танцы». Я тогда учился на третьем
курсе, и они на меня произвели огромное впечатление.
Я даже к ним показывался, даже вроде понравился,
но как-то так случилось, что потом мы не связывались и разговор не возобновлялся. Но, помимо
института, я все время занимался сам. Как дурак,
летом, на пляже, пока все другие отдыхали. И в результате
дебютировал как балетмейстер в спектакле
Саратовского драматического театра «Убегающий от любви» Лопе де Вега. А недавно у нас, в ТЮЗе, в спектакле
«Синяя птица». Но в Драме было больше возможностей,
там просто более подготовленные пластически
люди. Здесь я только начал заниматься с ребятами,
что называется, на перспективу. Вне программы,
в свободное время, они сами меня попросили с ними
поработать. Им это интересно, и мне тоже.
Я стараюсь не мечтать о будущем. Конечно, возникают
какие-то амбициозные желания, эгоистичные
мысли — хочу работать с таким-то режиссером…
Но после окончания института я покрутился, поездил,
показывался и в Москве в несколько театров.
Доходил до третьего тура, а потом случались нестыковки.
И я понял, что у меня ложное понимание себя
в профессии. Я понял, что неважно, где ты, кто ты.
Главное — честно делать свою работу. Не знаю, как
будет, но сегодня мне интересно заниматься тем, чем
я занимаюсь. Я готов не спать ночами, потому что
меня это увлекает всерьез и взахлеб. У меня, к счастью,
исчезло ощущение, что здесь, в Саратове, это не жизнь и надо куда-то ехать и прорываться. Я просто
знаю много примеров, когда людей по-настоящему
способных эти поиски изматывали и губили. Здесь
я работаю, у меня много практики, я каждый день
выхожу на сцену. Так же я выходил бы и в каком-нибудь московском театре. У меня есть моя работа,
в последнее время появляются интересные роли,
и я не собираюсь никуда рваться.

Донатас Грудович
Закончил ГИТИС в 2004 году, курс Л. Е. Хейфеца.
Курсовые работы: Пер Гюнт («Пер Гюнт» Г. Ибсена),
Треплев («Чайка» А. Чехова), «Зима» Е. Гришковца).
В настоящее время работает в разных театрах Москвы.
Учился в ГИТИСе, в мастерской Л. Е. Хейфеца.
После косил от армии, проходя альтернативную
службу в Театре Российской армии. Чтобы совсем
морально не разлагаться и не добивать свое сердце
совмещением физических нагрузок с алкоголем
и травкой (потому что тоска, потому что бред, потому
что в то время, как я драил сортиры, настоящие
мужчины защищали рубежи родины), начал
писать пьесы. Сначала шло не особо. Потом, как
окончил службу, было два года пустоты. Появилось
время гулять и быть в одиночестве. Начал отчетливо
экспериментировать над своим здоровьем.
И после того, как чуть не умер, начал писать больше
и лучше. Восстановил институтский спектакль
«Зима» по Гришковцу как режиссер, даже пару раз
сыграли неплохо. Потом решил впихивать свои
пьесы. Хотел в Театр. doc, так как это был единственный
на то время театр, занимавшийся современной
драматургией, куда реально было попасть.
А потом узнал, что мой любимый Вырыпаев свалил
в некий театр «Практика», и я поперся туда.
Попал на кастинг «Собирателя пуль», пьесы Юрца
(Юрия Клавдиева. — прим. ред.). Сейчас его играю.
А также в своем любимом Театре. doc «Заполярную
правду» Юрца же. В Центре драматургии и режиссуры
Казанцева и Рощина играю «Ваал» Брехта.
Сейчас буду в проекте Fabrika ставить свою пьесу
«Придурок на заднем плане». Это будет фрик-трэш-мюзикл юродства и кривляния. Зае… вся эта псевдуха,
пафос и гламур.
Надежды связываю с собственной драматургией,
а также с кино. Хочу режиссурой заниматься — как
кино-, так и театральной. Дизайном, инсталляциями,
перформансами всякими, акциями протеста, благотворительностью.
Молодому актеру: если сам ничего не будешь делать — никто за тебя ничего не сделает. Везде ходи,
себя сам толкай. Везде всем интересуйся. Сам пиши.
Сам ставь. Со всеми знакомься. Раскидывай фотки по кастингам. Не сиди на жопе. Принимай участие в актуальном
и современном, в сегодняшнем. Будь живым
и неравнодушным. Умей видеть, имей свою настоящую
позицию. Будь в первую очередь человеком.
Не снимайся в рекламе и дешевых сериалах, лучше
работай грузчиком.

Ирина Виноградова
Закончила СПбГАТИ в 2003 году, актерский курс И. Р. Штокбанта.
С 1999 по 2003 год — актриса «Театра Буфф».
В настоящее время — свободный художник.
Работы в театре было много, спектакли шли каждый
вечер. Еще на первом курсе меня взяли в театр
на роль мальчика на велосипеде. Я была очень горда,
что участвую во взрослом спектакле, на большой сцене,
и до пятого курса играла эту роль. Чуть не умерла,
потому что артисты растянули спектакль до двенадцати
ночи, а мне нужно было ездить через весь город
домой. Но пережила. А после окончания института
отработала два месяца и уволилась. В то время моему
будущему мужу предложили уехать в Тольятти
и построить там свой театр, и я уехала с ним, провела
там два года. Но не сложилось. Мы уже начали репетировать,
искали людей, но оказалось недостаточно
сил, средств, помещение нам не подошло, в общем, на этом все закончилось. Параллельно мы открыли рекламное
агентство, я начала осваивать новую профессию,
чтобы просто было на что жить. Потом я вернулась
в Петербург. И мне стало грустно, я решила
рвануть в Москву, показаться в театр. Было начало
осени. Конечно, я знала, что все показы проходят весной,
но у меня было очень много знакомых, которые
приходили в театры в сентябре-октябре, а там как раз
кто-то не приезжал, кто-то уходил в декрет, и ребят
брали. Я решила — чем я хуже, покажусь! Уходила
из дома рано утром и возвращалась поздно ночью.
Ходила по Москве от одного служебного входа к другому.
Знакомств у меня не было никаких. На порог
меня пустил один единственный режиссер и то только
для того, чтобы, узнав, что я из Питера, сказать:
«Вы знаете, я взял нескольких ребят из вашего вуза,
а они меня обманули и осенью не приехали, спасибо,
мне никто не нужен, до свидания!» В остальные театры
меня просто не пустили.
Больше в театры я не показывалась. Решила попасть
в кино. Кастингов у меня было великое множество.
Первый год все было очень глупо, потому
что я этого просто не умела, это отдельная профессия.
И как я ни пыталась, как ни билась — не складывалось.
Была, конечно, и реклама, эти глупые
тексты, старательные, кастинг, режиссеры, наглядно
показывающие тебе, какую эмоцию надо выдать.
Я, конечно, расстраивалась — не берут и не зовут.
Только узнают, из какой я мастерской, сразу говорят — до свидания. Режиссер меня не видит, не слышит,
не дает текст, у меня не было ни одних настоящих
проб! Только на дурацких рекламных проектах,
где просто моя мордочка не подошла в силу типажных
каких-то вещей. А вот на роли, даже маленькие, — ни одной пробы.
Мне хотелось стать жрецом этого дела, я не хотела
быть паяцем. А оказалось, что осуществлять это
практически негде, что таких театров в принципе нет.
Они все поставлены на широкую коммерческую ногу.
И если есть где-то настоящее творчество, то все это
происходит в маленьком тесном кругу. А если ты человек
со стороны, да еще скромный, не лезущий напролом…
Когда мне говорят «до свидания», я разворачиваюсь
и ухожу. Хотя это неправильно. Нужно быть
настойчивее, добиваться того, чего ты хочешь. Мое
поколение вообще, как мне кажется, существует по
модели «родители-дети».
«Нельзя! — Ой, извините!» Не по-взрослому.
В театр я больше не вернусь.
Потому что я уже
взрослый человек, мной
нельзя так играть, отфутболивать
от служебных
дверей. Я больше
этого не хочу.
Как состояться? Самое главное — должно быть
ощущение внутренней свободы, чтобы в очень непростых
условиях, когда тебе особенно нигде не рады, убедить
людей в том, что они в тебе заинтересованы, что
ты им нужен.
Мне очень нравится то, чем я занимаюсь сейчас. Мы
с мужем делаем художественно-документальное частное
кино. У людей есть какие-то записи, истории, фотографии,
все это хранится в коробках, огромных архивах.
Их судьбы часто оказываются намного интереснее,
чем судьбы известных людей! Людям хочется, чтобы
их архивы приняли какую-то художественную форму.
И мы занимаемся этим — пишем сценарии, снимаем,
озвучиваем. Это интересно, приносит радость мне, заказчикам,
это меня очень устраивает. Я думала попробовать
большой киносценарий, но… Просто я очень
не люблю работать в стол. Привыкла к тому, что есть
заказ и я его выполняю. А вот просто так отвлечься
посреди дел, что-то написать… Слишком практичный
взгляд на жизнь? Да нет. Меня просто не устраивает
жизнь в постоянном унижении и зависимость от кого-то, кто берет на себя право решать твою судьбу и что-то
тебе диктовать. Так живут многие мои однокурсники,
на маленьких ролях и зарплатах. Они говорят — а нам
нравится, нас устраивает. Ну, что ж. Меня — нет.

С. Епишев (Большой Джо Португалец). «Правдивейшая легенда одного квартала». Театр им. Вахтангова.
Фото В. Мясникова
Сергей Епишев
Закончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина в 2001 году, курс Ю. В. Шлыкова.
Курсовые работы: Дон Кихот («Дон Кихот» М. Булгакова, режиссер М. Борисов), Герцог («Мера за меру»
В. Шекспира, режиссер Ю. Шлыков).
В настоящее время сотрудничает с разными театрами Москвы.
Роли в театре: Снифф («Муми-тролль и комета»
Т. Янссон, режиссер К. Богомолов, Театральный центр
на Страстном), Мудезвон («Фредерик, или Бульвар
преступлений» Э.-Э. Шмитта, режиссер Н. Пинигин,
Театр им. Е. Вахтангова), Прорицатель («Антоний
энд Клеопатра. Версия», режиссер К. Серебренников,
театр «Современник»), театральный перформанс
Филиппа Григорьяна «Новый год».
После окончания училища я попал в театр им. Вахтангова,
где до сих пор служу. Михаил Ульянов, председатель
приемной комиссии, заприметил тогда нескольких
ребят, и нас сразу взяли. И в первые полгода
ввели в массовки во всех спектаклях. Потом Туминас
ставил спектакль «Ревизор», он искал молодежь, и мне
повезло. Это был момент, когда под словом «молодые» подразумевались действительно молодые. Я попал
в отличную команду. Многие из них сейчас в театре
не работают, но мы остаемся друзьями. В общем,
оказался в нужном возрасте и в нужном месте. Потом
пришел Григорий Дитятковский и предложил главную
ролищу в спектакле «Король-олень». Спектакль
прожил полсезона, зачах, и с тех пор ничего подобного…
хотя неважно. Выпустил с тех пор еще несколько
спектаклей. Параллельно откликался на предложения
из других мест. Участвовал в читках движения «Новая
драма», где познакомился с Михаилом Угаровым. Он
предложил сыграть в «Потрясенной Татьяне» по пьесе
Лаши Бугадзе. Заявка на спектакль оказалась удачной,
и мы стали играть. Потом возник театр «Практика»,
и «Татьяну» пригласили туда. Спектакль прожил недолгую,
но славную жизнь. Побывал на фестивалях
в Тбилиси, Нанси и Петербурге.
Репертуарный театр — это система, живущая по
своим правилам, и в нее надо вписываться. Это команда,
которую ты не выбираешь, это данность, и надо
приноравливаться к работе с этими людьми в этих условиях.
В принципе это система, которая работает на подавление и порабощение, которой нужно, чтобы ты
стал ее частью. Театр — это фабрика. Оказалось очень
важным сохранить свое личностное начало и, выполняя
все требования и играя в массовке, все-таки не потерять
веру в романтические идеалы театра. Это возможно.
Это дают параллельные работы, независимые
проекты, когда люди из разных театров собираются
в попытке выжить.
Надежды связываю с работой в хорошем коллективе,
коллективе единомышленников над интересными, важными
для сегодняшнего зрителя спектаклями. С поиском
каких-то новых актуальных театральных средств.
С развитием своих способностей, поиском новых граней
себя, открытием новых, неизвестных сторон.
Как сохранять личностное начало и развивать его,
если это не удается в коллективе, куда попал? Это твоя
профессия, этим ты зарабатываешь на хлеб. Если она
не приносит удовлетворения — ищи в параллельных
вещах. Можно читать книги, смотреть кино, любить
женщин… Не зацикливаться на театре как месте, где
работаешь. Не забывать, что есть много вещей, где
можно самовыявиться. Сниматься, работать с максимальным
количеством режиссеров, откликаться на все
предложения. И находить время на то, чтобы спортом
заняться или книжку почитать. Жить.
Предвижу
В новогоднюю ночь я выбегу толстым ангелом в ресторане
(жопа поролоновая, сиськи надувные, а живот — свой,
уже огромный). Я буду бежать в рапиде к людям и, улыбаясь,
посыпать их снежком. Потом, когда все напьются, я, толстой
крысой в блестящем желтом трэсе (жопа поролоновая,
сиськи надувные, а живот — свой, уже огромный), буду заводить
народ танцевать. Мои друзья будут вести программу
с розыгрышами для счастливых людей. Потом (если нас
не погонят, надавав сальными пиццами по жадным аниматорским
мордам за херовый праздник) нам накроют поляну,
и мы поедим. Не беременные выпьют. И нам не будет стыдно.
Потому что мы — не воруем. Мы — делаем людям праздник.
А люди — смеются над толстой крысой. Им это забавно.
Потом приедет мой муж. Он будет в другом ресторане проводить
счастливым людям игру мафия. На новогодний лад,
конечно (без своих очков, но в костюме Деда Мороза. Тоже
с толщинками. Мало ест мой муж). Он приедет счастливый
(если его не погонят жирным шашлыком за херовый праздник).
Потом мы поедем спать домой. По дороге позвоним
Юльке. Она в это время будет забавной Снегурочкой проводить
конкурсы в другом ресторане. У нее самая тяжелая
работа. Всю ночь. Но ее точно не погонят жирным оливье
по мысалу за херовый праздник. Она там ужо работала. Мы
поздравим ее и сквозь счастливых пьяных людей поедем по
Невскому домой. Дома подсчитаем баксы. Сложим в Набокова.
Там должна будет получиться сумма для возврата долга.
Это нас порадует.
Мы откроем шампанское и чокнемся, глядя друг другу
в жадные аниматорские морды.
















































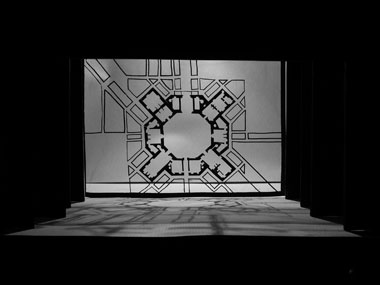
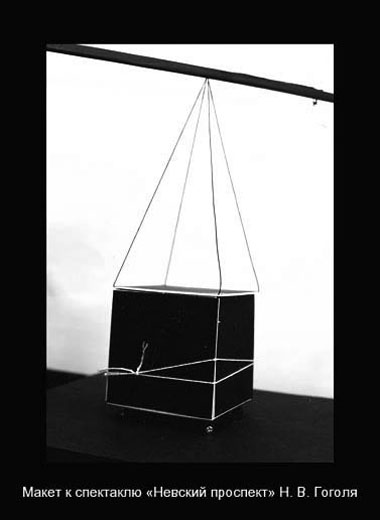













































комментарии