Марина Дмитревская. Сергей Васильевич, что
было для вас главным на этом курсе? Чем он отличался от тех, на которых вы преподавали раньше?
Сергей Женовач. Во-первых, все курсы отличны друг от друга. Промежуток в четыре года только кажется небольшим, а на самом деле это — дистанция, через четыре года, и даже каждый год, приходит совсем другое поколение, другие лица, другие
характеры, мировосприятие, и интересно идти в работе от них самих. Раньше я находился в компании
педагогов во главе с Фоменко, а здесь так сложилось,
что Петр Наумович передал мне возможность набора курса. Все было как будто то же самое, но возникла другая внутренняя ответственность, если не страх, то трепетность, что ли, по отношению к этим
ребятам. Они воспринимались мною совсем по-другому. У меня уже не было того круга друзей, с которыми я трудился на Малой Бронной, я работал с разными театрами, и так совпало, что я получил возможность все свое время и те мысли, которые накопились у меня в педагогике, посвятить курсу. Это и отличие.
Никогда невозможно предугадать набор. Можно
сидеть и мечтать в компании коллег, какие будут
рослые мальчишки, заразительные девчонки, интеллектуальные и умные режиссеры, — и все разбивается, когда приходят сами ребята.
Вообще, сейчас устаревает сам метод набора.
Традиционно перепуганные ребята в скверике обмениваются баснями, стихотворениями, отрывками из прозы — и практически читают один репертуар: сплошь «Вороны и лисицы», монолог Настасьи
Филипповны, когда она сжигает деньги, девочки читают «Мне нравится, что я больна не вами…». И поют
одну и ту же песню. Репертуар понятен и известен.
За этим трудно разглядеть людей, а ведь самое главное — увидеть живые индивидуальности, проверять их в этюдах, упражнениях. Мы даже придумали такую форму: садимся за стол, кто-то из педагогов делает с ними упражнения, а мы смотрим, как они проявляются. Можно на заученных интонациях,
на дежурном обаянии здорово прочитать стихотворение, а выйти в пространство — и зажаться. А бывает наоборот: человек застенчиво читает, и в глаза
не смотрит, и голосок слабый, а начнет играть — не оторваться. Мы же готовим людей не для филармонии, поэтому чтецкая программа важна как первое
знакомство, а потом надо людей крутить, вертеть
в упражнениях и этюдах, смотреть, что они могут.

«Мальчики». Сцены из спектакля.
Фото О. Черноуса
Мы, набирая одновременно актеров и режиссеров,
даем отрывки, и режиссеры уже выбирают и раскрывают тех, кто им интересен, то есть происходит
некий самонабор. В результате остается та группа
людей, которым интересно вместе. Для меня главный критерий: вот набор уже произошел, смотришь
в окошко с третьего этажа ГИТИСа, и если в скверике твои собираются кучкой — значит, компания уже
возникла. При наборе важно, чтобы ребята ощутили
локоть друг друга. Ведь им четыре года быть вместе.
Это не только обучение, это самообучение и обучение друг у друга. Важно заварить общий бульон, создать атмосферу радостной работы — и тогда они начнут развиваться, изменяться, расти.
Ребята, которые сейчас являются «Студией театрального искусства», были для меня просто как детишки. Может быть, потому, что это был
мой первый набор, я очень волновался. Я сохранил компанию педагогов, которая была все эти
годы в Мастерской Петра Наумовича, — Евгений
Борисович Каменькович, Сусанна Павловна
Серова, Ольга Васильевна Фирсова, — и пригласил Германа Петровича Сидакова (выпускника курса, который стал основой театра «Мастерская Петра
Фоменко») и моего однокурсника по ГИТИСу Сергея
Григорьевича Качанова.
Во время набора (когда уже было отобрано шестьдесят человек) мы разбивали ребят на группы, надевали спортивную форму, по три часа занимались с ними упражнениями, записывали все на видеопленку и потом просматривали, обсуждали…
Мальчишки в этом наборе были какие-то невысокие (прошлые студенты, которые помогали их набирать, называли их «дети из-под лодки»), метр с кепкой. Потом пошли повыше… А девчонки — костяк составила замечательная челябинская колония.
Очень сильные, мощные, красавицы, индивидуальности. И сразу заварилась какая-то домашняя, уютная атмосфера. Вот нынешний набор — более индивидуальный, ребята еще не вместе, а эти с первых занятий чувствовали друг дружку.
М. Д. А кто-нибудь отсеялся?
С. Ж. Мы никогда не запрещаем абитуриентам
поступать во все вузы, более того, мы следим за талантливыми ребятами, которые по той или иной
причине нам не подошли, чтобы они куда-то прошли… В этом году был новый набор, и те, кто не прошел, а поступил в другие вузы, прибегают к нам потом, как к родителям. Но мы так тщательно и кропотливо набираем, что отсевов почти не бывает.
Потому что отсев — это ошибка педагогов. Поэтому
набор — главное.
М. Д. В нашей Академии есть порочная, на мой
взгляд, практика вольнослушателей. Иногда их
столько же, сколько людей на курсе. Целая аудитория «запасных»…
С. Ж. Очень важно создать атмосферу и настроение, поэтому многие обижаются, что мы берем ограниченное количество людей и не пускаем посторонних. Когда идет тренинг — сам надеваешь тренировочный костюм, кроссовки и принимаешь участие.
А если кто-то сидит в углу и смотрит — ты невольно
начинаешь на него играть, и упражнение превращается в спектакль, теряется процесс обучения.
Эти ребята были стайкой, все вместе отмечали праздники, дни рождения, каждую неделю делали капустники. На предыдущих курсах капустники как-то не получались (на курсе, на котором
учился я, мы завели традицию проваливаться на капустниках, потому что режиссеры всегда старались вложить в них столько тяжелых, неподъемных мыслей, что они превращались в странные
сюрреалистические композиции). А этот набор опроверг традицию, и каждую субботу были актерско-режиссерские сочинения (то, что в петербургской школе называется «зачинами»). И все четыре
года у них не было срывов (только на третьем курсе, на мольеровском семестре, они подустали), они
прошли ровно и стабильно, очень много работали,
а четвертый год был просто подвигом. Они существовали в режиме театра: 15–18 спектаклей в месяц.
Выступали и в роли монтировщиков, костюмеров,
осветителей. То, что возникла студия, — это ребята вытащили сами. Они уже не были «фоменки»,
не могли проехать на чужих достижениях, им все
надо было доказывать самим. На их зачеты, экзамены приходило столько людей, что мы их показывали по несколько раз. Потому что артист рождается в момент игры при зрителях. И студенты должны понимать, что такое первый показ, второй, четвертый, пятидесятый… Сейчас посчитали: Студия
сыграла уже больше 150 спектаклей. Для студентов
это большая цифра.
М. Д. А как на актерском курсе обучались режиссеры?
С. Ж. Их восемь. Первый курс всегда совместный,
здесь важно заложить основы школы, создать, как
говорит Каменькович, «общество взаимного восхищения», когда все радуются. Раскрыть возможности воображения, фантазии каждого, понять, у кого
какие проблемы, и научить их вести живую импровизационную игру. Импровизация — основа воспитания.

«Мальчики». Сцены из спектакля.
Фото О. Черноуса
В то же время режиссеры обязательно должны заниматься отдельно и идти на опережение. Почти три
года, до «Мальчиков», я не встречался с нашими актерами (только на общих тренингах и занятиях по субботам, где мы обсуждаем их самостоятельные работы). С режиссерами мы занимались по три-четыре
раза в неделю, шли на опережение. Можно красиво
описывать спектакль, но нужно научиться мыслить
сценическими образами, переводить прекрасные
мысли в действие, в реальность. Во втором семестре
мы занимались Проппом, анализом сказок. Мне кажется, тот, кто верно научится анализировать сказку, сможет разобраться и в Шекспире, и в Мольере…
Студенты-режиссеры являются такими же педагогами курса, они даже больше времени проводят с актерской группой, чем сами педагоги. С одной стороны, они друзья, с другой — лидеры, затейники своих работ, и актеры курса должны знать: у режиссеров с Сергеем Васильевичем какая-то другая жизнь.
Тогда они начинают иначе относиться и к режиссерам-однокурсникам, а дело педагога — подсказать,
где что не получается, и только в том случае, когда
студент нуждается в подсказке. (Когда я сам учился у Петра Наумовича и Розы Абрамовны Сироты, я часто задумывался: сидит двадцать человек, и только
один-два воспринимают информацию, а остальные
почему-то нет. Значит, у них в этот момент не возникает потребности в этой информации.)
Мы делаем тематические семестры, когда ребята погружаются в строй мыслей и чувств Шекспира,
Мольера, Гоголя, Островского, Достоевского — мы
разбираем произведение целиком. Потому что мыслить отрывками — это неправильно, это не режиссерское мышление. Режиссер мыслит целым, я должен понять развитие и движение всей пьесы целиком, ее событийную структуру. Только после этого
я могу взять отрывочек. На отрывки уходит очень
много педагогического времени: надо восстановить в памяти все пьесы, разобрать их с ребятами…
Когда все занимаются одним автором, погружены
в одно, то в работе друг друга видят свои достоинства и проблемы, как бы наблюдают себя в отраженных зеркалах. Появился отрывок из «Поздней любви» — но в контексте всей пьесы. Дальше мы просим
студента взять отрывок из начала пьесы или сделать
финальное событие. Потом собирается одно действие. Или два. И за два-три года — спектакль. Нельзя
мыслить отрывочно. Я поработал сейчас с артистами разных театров и
вижу, как многие профессионалы продолжают мыслить отрывочками, не чувствуют, как одно перетекает в другое, а другое — в третье. Не бывает, что в жизни все — главное, что-то проходит мимо, а на сцене получается, что все главное, и артист вкладывает весь темперамент, всю
силу в каждый момент. Возникает нажим, неправда. Надо уметь отдать кусок партнерам — и сделать
это легко.
Режиссеры должны это понимать. А им часто
легко сделать отрывочек, найти парадокс, перевернуть — и не думать, чем закончится история. Отрывок будет эффектный, пройдет здорово, останется у всех в памяти, получит отличную оценку. А дальше? Вдруг он поймет, что вся история не выдерживает такого парадоксального хода? Значит,
надо было найти другой парадокс.
Важным был семестр по Достоевскому. Он дал
нам повод создать «Мальчиков». Здесь была возможность прорываться сквозь словесные решения автора — по сорок минут, по часу, — и надо было учиться
распределяться, держать внимание на этих километрах слов. Достоевский очень коварен, хитер, иногда
можно не понимать, что он пишет, а только включить эмоцию — и наговорить, напылить, наэмоционалить, а поскольку у Достоевского слово к слову
привязывается и мысль точна и упруга, можно подумать: ах, как актер все понимает! А он не понимает… Нельзя научить: это — правильно, это — нет.
В итоге обучения каждый режиссер должен обрести
свою манеру мышления, репетиций, мизансценирования. Найти свой путь.
М. Д. Ребята с курса будут разными по манере?
С. Ж. Думаю, что да. Уже сейчас манера Саши
Коручекова отличается от манеры Насти Имамовой,
или Олега Юмова, или Дани Безносова, или Улана
Баялиева, Паши Зобнина. Но манера — это тоже этапик. В итоге надо обрести свой стиль. Это уже более сложно, для этого надо поставить много спектаклей. Стиль Эфроса или Товстоногова — это уже не манера, а именно стиль, и обретение стиля — счастье, которое зависит не только от обучения, но и от
способностей. А мы должны помочь каждому осознать свою индивидуальность, понять, чем он отличается от других. Есть ребята, которые легко входят в контакт с артистом, но у них нет пространственного мышления. А кто-то образно мыслит, но не может выразить это через человека. Другой замечательно мизансценирует, и мышление хорошее,
а не умеет работать со словом. Надо не бояться недостатков, наоборот — радоваться, когда что-то не получается: «А, ты не умеешь мыслить на перспективу,
сейчас будем этим заниматься! Здорово! Ты не умеешь слушать партнера? Здорово, будем это преодолевать!» То же самое с режиссерами.

«Как вам это понравится». Сцены из спектакля.
Фото О. Черноуса
После Достоевского у нас был семестр Мольера,
и мы уже просили у них отрывки на пять-десять минут. После Достоевского полезно попробовать организовать стихию игры умного, саркастического, парадоксального Мольера, где есть очень явный слом
игровых ситуаций. Научиться импровизировать
в острой форме за короткий промежуток времени!..
Потихоньку-полегоньку из отрывков вырастали
спектакли. В итоге выросло три. Шекспир у Саши
Коручекова, «Ехай!» Насти Имамовой, «Поздняя любовь» Улана Баялиева. Какие-то работы по разным
причинам мы приостановили. У Дани Безносова
были два акта «Сна в шалую ночь», но мы не нашли
возможности довести работу до спектакля, у Олега Юмова был почти сделан «Венера и Адонис», но он сам остановился. Мне кажется, в учебе можно
и должно останавливать свою работу. Наше дело таково, что надо уметь добиваться результата. И если
иногда добиваешься, но видишь, что добивался не того, чего хотелось, — лучше эту работу оставить
и идти дальше. Чем прекрасно обучение? Можно
ошибаться. И учиться можно только на ошибках.
Во время учебы ошибка дороже удачи. А уже после
пяти лет обучения, как говорит Петр Наумович, лимит ошибок исчерпан. В тебя верят артисты, тебе доверяют театр, вокруг тебя складываются финансы —
и ты должен уметь держать удар.
М. Д. Ваши ребята работали только со своими?
С. Ж. Конечно. Результата можно добиться только в атмосфере курса. Потом они будут входить
в атмосферу театра. И если Олег Юмов почувствовал атмосферу курса — он почувствует и атмосферу Красноярской драмы, где ставит дипломный
спектакль «Дом Бернарды Альбы». Искусство театра — это искусство жить вместе и сочинять спектакли вместе. Поэтому мы и исповедуем «театр сочинения», когда режиссер во главе этого сочинения:
дает идею, придумывает затею, и в нее приходят всякие творческие люди — художники, артисты… Они
обживают и наполняют смыслом эту придуманную
структуру.

«Как вам это понравится». Сцены из спектакля.
Фото О. Черноуса
М. Д. Все режиссеры останутся в Студии?
С. Ж. Нет, у всех разные судьбы. Ребята поступают в разном возрасте, с разным творческим и человеческим багажом, поэтому осознавать профессию
они тоже начинают по-разному. Одно из педагогических свойств — умение ждать. Вообще педагогический результат определяет только время. Кто-то
готов уже сейчас, кому-то надо еще позаниматься.
Встреча с театром — большое испытание. Не случайно изобретена форма «Школа — студия — театр».
Нужен промежуток, студийное состояние, ведь попадая прямо в театр, многие не выдерживают — процентов восемьдесят ломается. Потому что первое поражение бывает и последним. Можно так обломаться, что возникает страх сцены. Поэтому важно, чтобы первая работа получилась, и я стараюсь, чтобы
было именно так, чтобы она родилась именно в той
среде, где ребят любят, пестуют. У меня мечта: дипломных спектаклей в мастерской должно быть столько, сколько мы набрали режиссеров. Каждый должен
сделать что-то в своей любимой среде, а дальше идти
в жизнь.

«Как вам это понравится». Сцены из спектакля.
Фото О. Черноуса
Не из каждого курса может и должен возникать
театр, но атмосфера доверия, роста, учебы, небоязни
ошибаться — залог успеха в сложных условиях театра. У режиссерской группы есть еще пятый год учебы. И если все будет так, как нам хочется, кто-то останется в студии, а кто-то будет возвращаться и работать. Жизнь движется.
У меня есть старая мысль, и я даже устал ее повторять и к ней возвращаться: актеры должны учиться
пять лет, а режиссеры — шесть. Они только к двадцати годам себя осознают! Приходят на набор следующего курса и говорят: «Вот бы нам сейчас это начать,
мы только что поняли это упражнение…» — а поезд
ушел, им уже надо работать в среде, не столь благожелательной. И лучшие выпуски всегда были среди
тех, кто пробивал себе пятый год, продлевал учебу.
«Студия театрального искусства» — это как раз такая
возможность. Вот сейчас мы занимаемся Лесковым,
стараемся, чтобы ребята слушали лекции, съездили
на Орловщину, посмотрели, что такое настоящая
усадьба, тамошние поля, озера. Следующей работой будет Гоголь — и мы встречаем ребят с Андреем
Немзером, чтобы он что-то им рассказал. Насколько
долго они будут обучаться, настолько интересны они
будут самим себе и окружающим. Студия — это продолжение учебы. На пятый год я отпускал бы их по театрам, а на шестой возвращал бы снова в аудитории и давал возможность делать отрывки, этюды со
следующим набором их мастера. Хочется сделать некую фабрику. Почему врачи должны учиться шесть
лет, а потом проходить интернатуру, а режиссеры —
пять лет? Душой чувствую — им не хватает еще одного года, чтобы окрылиться, попробовать, пообломаться, поискать, поошибаться — и закаленным человеком войти в профессию. То есть пять лет нужно
актерам и шесть — режиссерам.

«Как вам это понравится». Сцены из спектакля.
Фото О. Черноуса
М. Д. Москва так сильно любила этот курс. Не залюбили до полусмерти? Не избаловали?
С. Ж. Все замучили меня этим вопросом! Почему-то все боятся — как бы не сказали лишних добрых
слов! Да мы устали уже от негативных эмоций, оттого, что мы все видим друг в друге каких-то конкурентов. Комплексы, интриги, недоброжелательства… А ребята ничего этого не знают. Они приходят в 10 часов утра и уходят в 12 ночи. Они работают,
трудятся, а если после спектакля кто-то заходит —
это для них событие. Додин зашел, Галендеев… Им
важно понять, что из их работы воспринимается,
что — нет, и когда заходят Петрушевская, Михалков
или Ибрагимбеков, Баринов или Ира Розанова —
они начинают чувствовать воздух, понимают, что
они работают в контексте мастеров. Важно же в профессии ощущать коллег! Мне всегда очень мешает,
когда люди замыкаются в своем и ощущают всех конкурентами. У нас общее пространство. Режиссеры
должны быть разные. Страшно представить, что
все — фоменки, гинкасы или любимовы. Нельзя говорить: «Ты здесь не понял». Хорошо, что все разные,
только надо отличать людей интересных, со своим
миром театра, от людей, которые занимаются не театральным искусством, а халтурой. Вот тут нельзя
путаться и ошибаться, а в остальном — пожалуйста, любое достоинство есть продолжение недостатка.
Главное, чтобы люди по-разному мыслили и делали
разные театры — своеобразные, талантливые, спорные! И когда ребята видят, что кому-то интересна их
работа, — это огромное событие. Мы играли в Польше, пришел Анджей Вайда. Он с ними фотографировался, был счастлив, а Сереже Аброскину, который играл собаку, Вайда говорил: «Добже, Полкан,
добже, Полкан…» — то есть он воспринимал его
как собаку… Такие встречи — импульс к новой работе. Ребята сами изобрели во время спектаклей такую форму: мы начинаем хлопать зрительному залу,
потому что мы играли все вместе. Чего греха таить,
сейчас критика оторвана от театрального процесса,
а все ждут, чтобы их только хвалили и захваливали.
Но хочется глубокого, проницательного, умного разбора и постижения того, что ты сделал. Не на уровне «превосходно — бездарно». Из-за прямой оценочности возникают сложные моменты. Вот, например,
своеобразно и по-разному работает Нина Чусова.
И за одни и те же спектакли ее могут печатно «уничтожить» и объявить гением. А она просто талантливый человек и вот так работает. Надо разобраться в ее мироощущении, ее миропонимании. Я не поклонник спектаклей Нины, но мне кажется, что изза критики ей просто стало трудно работать.
М. Д. Ну, это Москва, которая сегодня превозносит, а завтра скидывает вчерашнего кумира, наигравшись…
С. Ж. Но так же нельзя! Она делает то же, что
и делала, но вчера ее за это превозносили, а сегодня ругают. В молодых режиссерах я стараюсь воспитать внутренний критерий, умение защищаться.
Надо понять: и режиссеры, и критики, мы все занимаемся одним делом, мы любим театр. Мы создаем
предмет, а критики — память театра, которая умеет
словом задержать то впечатление, которое возникло в зале. Я стараюсь выработать в себе и в ребятах
пушкинский критерий: «хвалу и клевету приемли
равнодушно».

«Marienbad». Сцены из спектакля.
Фото О. Черноуса
М. Д. Бесконечно твержу всем, что «поражений от победы ты сам не должен отличать»…
С. Ж. Абсолютно правильно! Но когда возникают люди, которые разделяют то, что ты делаешь, это
очень полезно! И ребята ждут разговора по сути, по профессии. Они ждут предложений, готовы соглашаться и возражать — воспринимать. Должен быть
обоюдный процесс.
М. Д. Вы долго не пускали ребят в кино. А когда я увидела их впервые в Шекспире, сразу подумала: где же наши режиссеры, эти лица просятся на экран!
С. Ж. Наоборот, я их отправляю в кино, запрещать вообще ничего нельзя, но они должны обучаться (есть примеры, когда на первом-втором году они
уходят в кино и уже не возвращаются). Если правильно организован процесс обучения, им это должно быть интересно, это должно быть их судьбой, а не что-то другое. Если твоя цель получить профессию
и потом служить ей — это одно. Если хочешь мелькнуть и попасть в обойму — это другое. На этом
курсе вопрос не стоял вообще, с утра до вечера мы
занимались профессией, а когда, допустим, пришел Николай Досталь и попросил отпустить Ольгу
Калашникову в «Штрафбат» — она за десять дней
снялась, заработала какую-то денежку и приобрела
некий опыт. Встреча с замечательными режиссерами и партнерами — та же учеба, но надо понимать
приоритеты. Если актера полюбили за хорошую работу в кино — это плюс театру, на него станут приходить зрители.
М. Д. Но ведь бывает, что кино отнимает артиста.
С. Ж. Значит, он делает для себя выбор, ничего страшного. Но «Студия театрального искусства»
возникла только от желания пойти за ребятами, за их намерением остаться вместе, потому что вместе они интереснее, сильнее — в том числе и киношникам. Если у кого-то интерес переменится — ничего страшного. Вернется — хорошо, не вернется —
значит, такая судьба. А я горжусь, когда приходят
Звягинцев, Учитель, Досталь и хотят их снимать. Все
можно организовать.
М. Д. Вы набрали новый курс. И что теперь?

«Marienbad». Сцены из спектакля.
Фото О. Черноуса
С. Ж. На какое-то время сосредоточусь только на этих двух местах — Студии и Мастерской.
В Мастерской надо дать людям почувствовать аромат
той коллекции, которая возникла на курсе, научить их трудиться. Но к работе я привлек Сашу Коручекова,
который проводит тренинги и занятия. А Студия
должна переносить свои спектакли на другие площадки, играть, делать выездные варианты. Счастье,
если у нас будет свой дом. Пока идет движение, боюсь
быть конкретным. А пока я бегу в Студию — и счастлив, бегу в Мастерскую — и тоже счастлив. Конечно,
за эти годы возникли связи и обязательства и в Малом
театре, и во МХАТе, и в Мастерской Петра Наумовича.
В своих дневниках Пропп советует: чтобы не потеряться и не растеряться в жизни, надо выбрать главное. У меня сейчас есть возможность обучать ребят,
и будет вот такой педагогический год.
М. Д. Притом, что, как вы говорите, они работали
по 12 часов, ребята играют очень легко. Как достигается такая легкость?
С. Ж. Нужно тратиться на сценической площадке настолько, насколько позволяют и сценическая
ситуация, и тот зритель, который тебя воспринимает. Это главный принцип актерского существования. Ведь что часто бывает? Зритель вот такой, а я
стараюсь максимально эмоционально выполнить
ту небольшую задачу, которая стоит. И зритель не воспринимает, и партнер, а я жму на полную катушку… В жизни все происходит настолько легко, стремительно и быстро, насколько у тебя это сегодня идет, насколько это сегодня позволяешь себе ты
сам и партнер. Мы же не каждый день дико хохочем или плачем. То же самое — в сценическом времени. В роли может быть два куска, остальные, бывает,
надо отдать партнеру. Это дыхание и становится легким. Надо тратить столько сил, сколько требуют обстоятельства. Другой театр я не понимаю и не люблю: когда актеры пыжатся, потеют, орут, пытаются
изнасиловать свое воображение, работают на износ.
Это неправильно по отношению к себе и зрителю.
Интереснее видеть, слышать, воспринимать, вести игру, импровизировать в этой игре. Обрести духовное действие, а не выдавать эмоциональный результат. Я учу ребят: только цепляйтесь друг за друга. Почувствовали, что происходит что-то плохое, — остановитесь, начните сначала, не тащите это плохое
в следующую сцену. Научитесь играть сегодня, здесь,
сейчас, в эту секунду настолько, насколько это получается. Это и дает возможность скольжения.
Декабрь 2005 г.


























































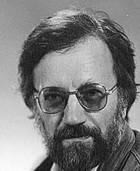























комментарии