Спектакль Русского театра «Дядюшкин сон» начинается с того, что персонаж, которого можно назвать Человек от театра (Александр Кучмезов или Николай Бенцлер), раскрывает потрепанный том Достоевского и сдувает со страниц густую пыль. Ход явно провокативный: покрытый пылью классик в нынешнем сезоне стал самым репертуарным драматургом Эстонии. Его инсценировали пять (!) раз. А если добавить спектакль по пьесе шведа Матиаса Андерсона «Преступление, помощь на дому, наказание, деньги, убийство пенсионерки» (Другой театр, режиссеры Эрки Ауле и Артем Гареев) — то шесть.

Д. Денисюк (Иван Матвеевич), А. Ивашкевич (Семен Семенович). «Русский смех». Эстонский театр драмы.
Фото С. Красия
Во всех постановках на первый план выходил своеобразный юмор писателя. Очень редко — мягкий, примиряющий с абсурдом жизни: в «Белых ночах» Лембита Петерсона в Theatrum’e и отчасти во втором акте «Русского смеха», совместной продукции трех русских театров стран Балтии (режиссер Роман Козак), когда жесткий гротеск «Крокодила» и «Бобка» сменяется изящной водевильностью пустячка «Чужая жена и муж под кроватью».
Чаще — жутковатый. А в первом акте «Русского смеха» и в «Бесах» Хендрика Тоомпере (Эстонский театр драмы) местами висельный. В «Дядюшкином сне» (режиссер Михаил Чумаченко) можно проследить, как молодой еще Достоевский избывает в себе гоголевское начало. Борется с ним, то уступая обаянию Гоголя, то выворачивая наизнанку его ходы, вмещая в них совсем новое содержание.
ПОЧЕМУ ОН ТАК СОВРЕМЕНЕН?

Х. Контрерас (Тарасевич), К. Кяро (Лебезятников). «Русский смех». Эстонский театр драмы.
Фото С. Красия
По разным причинам. Очень напряженные сюжеты, невероятная концентрированность действия и судеб. Но самое важное — атмосфера, в которой развитие характеров, сюжетов, движение судеб происходит… не то чтобы стремительно, но каким-то безумным водоворотом. От героев требуется бескомпромиссная готовность идти до конца, их охватывает горячечное возбуждение. Герой Достоевского отстаивает свою правду, но при этом он совсем не уверен, что движется в правильном направлении. Может, как раз наоборот. Он к гибели своей стремится. Но — на полную катушку, вкладывая в это движение всю свою энергию. Это самоощущение сейчас распространяется на весь мир, становится глобальным. И Достоевский снайперски точно попадает в сегодняшний ритм жизни. Сам ритм его прозы — задыхающийся, горячечный, вроде бы противопоказанный сцене, так как все герои Достоевского говорят одним языком и речевые характеристики затруднены, — несет в себе мощную и очень сценичную энергию. От того, живет ли она в спектакле, зависит очень многое.
И — что кажется уже приметой нашей эпохи — очень многим героям Достоевского присущ откровенный и бесстыдный цинизм. «Да, я подлец и прохвост, но признаюсь в этом открыто, а значит, я лучше тех, которые стесняются в этом признаться». Они редко меняются. Разве что Раскольников. Но если мы не хотим быть Ставрогиными или Верховенскими (или, в лучшем случае, Мозгляковыми), мы обязаны осознать необходимость изменить себя, сдвинуть с привычной оси. Время сегодняшнего самоощущения человека — это потоки полей Достоевского. Любое его произведение — вопрос Бога и человека. Человек, нарушающий божественное в себе или другом. Человек, созидающий божественное в себе и другом. Оба неправы. А прав тот, кто созерцает Бога в себе и в мире. Но и у самого Достоевского таких персонажей мало. Соня Мармеладова, Мышкин, в «Бесах» — Хромоножка. Ну не жильцы они на этом свете!
Ранней осенью в Таллинне появился Марк Розовский со своей «Крокодильней». И предложил ее по давней дружбе «Театру Старого Баскина».
Этот театр — явление довольно эфемерное, материализация былого (ныне сильно поблекшего) авторитета известного артиста драмы и эстрады Эйно Баскина, «эстонского Аркадия Райкина», как его называли 30–40 лет назад. При советской власти Баскин, неугодный идеологам из ЦК КП Эстонии по двум причинам (1 — сатирик, 2 — еврей), был даже судим по совершенно идиотскому поводу: он переписывался с какой-то дамой и весьма красочно описывал их прежние свидания и намерения, которые хотел бы претворить в жизнь при следующем свидании. Письма интимного характера, о которых должны были знать только автор и адресат, перлюстрировались, и по ним было возбуждено уголовное дело о растлении (даме было за 30, кавалеру еще больше!) и распространении порнографии. Просидел Баскин, разумеется, недолго; в тюрьме руководил художественной самодеятельностью; после освобождения народ его еще сильнее возлюбил, а уже на рассвете горбачевской эпохи специально «под Баскина» был создан театр «Студия Старого города». Сатирический по преимуществу. Он сразу же прогремел сенсационной постановкой «Ревизора» (в современных костюмах; Хлестакову в качестве взяток несли французский коньяк и южнокорейский двухкассетник, Городничий, которого играл замечательный характерный актер и кинорежиссер Калье Кийск, выглядел секретарем горкома, ожидающим инспекции из ЦК, но, уповая на человеческие слабости, не очень-то опасающимся ее…). Позднее популярность «Студии Старого города» упала, в зале сидели преимущественно пенсионеры, а затем бедовая директриса Анн Веэсаар последовательно выжила Баскина из основанного им театра, избавилась от его сына Романа, тоже хорошего актера и режиссера, и пригласила в художественные руководители шведа Георга Мальвиуса, который поставил несколько дорогостоящих мюзиклов и привел театр к полному банкротству. Баскин же организовал свой частный «Театр Старого Баскина». Своего дома у театра нет. Ставит он по преимуществу смешные комедии, с которыми разъезжает по провинции. Труппа, как можно догадаться, очень слаба. Но провинция и на такое согласна.
Дилетант (это не оценка, это констатация факта) Розовский перенес на сцену полудилетантского эстонского театра свой спектакль, адресованный московской публике. Коктейль из «Крокодила» с небольшой примесью «Бесов» и «Преступления и наказания» был сотворен ради политической сатиры на превращение путинской квазидемократической России в откровенно полицейское государство. Многие намеки, в основе которых лежали вполне конкретные события, нашей публике просто-напросто были непонятны. В итоге зритель получил развеселое шоу, в котором на фоне не очень сильной труппы выделялись Райво Рюйтель, игравший Друга, и Марика Королев (жена проглоченного крокодилом Ивана Матвеевича). Но использовать Достоевского для такой простой надобности — все равно что микроскопом гвозди забивать. И дорогую вещь жалко, и молотком как-то сподручнее!
НА ПУТИ К СВИФТУ
Роман Козак помещает Достоевского где-то на полпути от разочарованного, принявшего мир как безысходность позднего Гоголя — к совсем уж беспросветному, но от этого не менее великолепному Свифту.
«Все мы вышли из гоголевской „Шинели“», — сказал как-то Достоевский. В спектакле эти слова становятся плотью, материализуясь в образе персонажа, обозначенного как Первый (Александр Ивашкевич). Первому дана (в «Крокодиле») обязанность все устраивать: выручать проглоченного зверем Ивана Матвеевича (Дмитрий Денисюк), объясняться с всемогущим бюрократом Тимофеем Семеновичем (Кирилл Кяро), следить за тем, чтобы очаровательная супруга проглоченного Елена Ивановна (Александра Метальникова) не слишком злоупотребляла неожиданно приятным положением соломенной вдовы. Первый взывает то к человечности, то к элементарной логике. И убеждается, что оба эти понятия деформированы, доведены до абсурда, что мир нелеп… и прекрасно существует в этой своей нелепости.
После всех этих злоключений сюжет «Крокодила» обрывается… точнее, плавно растворяется в пространстве спектакля, Первый сбрасывает с себя прежнюю роль и превращается в рассказчика из «Бобка», неудачливого литератора, речь которого по мысли и ритму близка к бреду гоголевского Поприщина. «Бобок» — лучшая часть спектакля и… наименее зрительская. Утонченный интеллектуал Козак выбрал для Достоевского особую эстетику, рождающуюся из смешения низких жанров, того, что называется «трэш» («мусор»): балагана, цирка, немого кино (а в «Бобке» — еще и канкана). И все это скрепил трагикомическим гротеском.
Актеры трех русских театров в этой эстетике чувствуют себя как рыба в воде. Ансамбль из «сборной команды» возникает почти безупречный, причем неважно, сколько места отведено той или иной роли в пространстве спектакля. Уморительно смешны абсолютно цирковые Немец (Вадим Гроссман) и Муттер (Наталья Попенко). Жутковаты покойники в «Бобке»: Генерал (Яков Рафальсон), Тарасевич (Херардо Контрерас), Лебезятников (Кирилл Кяро), Юноша (Андрей Можейко) с торчащими из фрака распоротыми внутренностями, прожженный циник Клиневич (Александр Агарков), юная развратница Катишь (Вероника Плотникова)… Карнавальная (точнее — ярмарочная) стихия этой эстетики подкреплена музыкантами, наяривающими нечто бравурное, — Тапером (Людмила Могилевская) и Скрипачкой (Ксения Агаркова), вдруг превращающейся в кладбищенскую ворону… А жестокая и глумливая музыка, взятая из произведений Альфреда Шниттке, и броские хореографические номера, поставленные Аллой Сигаловой, договаривают то, что недосказано словом.
Но сам же Козак обесценил свои находки вторым актом («Чужая жена и муж под кроватью»). Стилистика первого акта забыта. Если бы не связующие звенья: фрачники из «Крокодила», пролетающие сцену по диагонали, трупы из «Бобка», агрессивно и дьявольски заманчиво повторяющие свои куплеты, и Первый, которому дано завершить действие, — возникло бы впечатление, что после антракта идет совершенно иной спектакль. Игорь Чернявский, Яков Рафальсон, Херардо Контрерас, Лариса Саванкова разыгрывают милый пустячок про то, как светский хлыщ и незадачливый ревнивец проникают в чужую спальню и супруга-кокетка вынуждена отвлекать от них внимание своего мужа, пребывающего в полном маразме. Играют они мастерски — но играть-то особо нечего! Режиссер словно извиняется перед публикой за то, что сделал первый акт слишком интеллектуальным.
ПОД АНЕСТЕЗИЕЙ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ

З. Иоаннесян (Расул), Е. Тарасенко (Лейла). «Преступление, помощь на дому, наказание, деньги, убийство пенсионерки». Другой театр.
Фото из архива театра
Пьеса Матиаса Андерсона с длинным названием «Преступление, помощь на дому, наказание, деньги, убийство пенсионерки» любопытна лишь как курьез. Современному среднестатистическому западному драматургу не переварить мысли Достоевского. Классика адаптируется под вялое и скучное политкорректное мировоззрение, составленное из прописных истин. Автор напоминает благополучному обывателю, что где-то неподалеку от него прозябают бедняки, маргиналы, бомжи, исламские гастарбайтеры. Мол, дом ваш, господин Карлсон, Нильсон или как-вас-там, стоит на вулкане — потухшем, конечно, но кто знает, вдруг он оживет?
Именно такую драматургию обожает Другой театр, вполне дилетантский, работающий в манере неглиже с отвагой.
Мотивы Достоевского обыграны крайне поверхностно. Раскольников распался на двух персонажей, единокровных братьев: один из них, Бьорн (Артем Гареев), клерк, мечтающий стать писателем, рассуждает (не на уровне героев Достоевского); другой, полушвед-полутурок Расул (Завен Иоаннесян), отчаянно ищет деньги на лечение матери, которую Больничная касса обещает «обслужить» только через три года. Зато Соня и Дунечка соединились в образе сестры Расула Лейлы (Екатерина Николаева), которая служит приходящей домработницей от социального департамента у старушки-инвалидки Мэрты (Сильвия Лайдла). Катерина Ивановна, в свою очередь, превратилась в мать Расула и Лейлы Ясмин (Елена Тарасенко), склочную и озлобленную болезнью и нищетой крашеную блондинку турецкого происхождения.
Вместо конфликта — пустышка, обманка. Расул собирается убить Мэрту, которая всем рассказывает про свои миллионы, но старушка-то бедна как церковная мышь! А кандидат в Раскольниковы может десятки раз пережить преступление в своем воображении, но поднять руку на беспомощную старуху — никогда. Все в порядке, все свободны, и пусть Достоевский нервно курит в коридоре: о сегодняшних униженных и оскорбленных должны думать не великие писатели, а бюрократы из социального департамента!
ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ ОДНОВРЕМЕННО
«Бесы» в Эстонском театре драмы и «Дядюшкин сон» в Русском театре вышли практически одновременно, с разницей всего в один день, и такая синхронность появления двух театральных блокбастеров говорит о многом.
Более того: спектакли схожи по архитектонике. Оба — в трех актах (на фоне общепринятой в наше время двухчастной композиции это что-то да значит!). Очевидно, сам материал требует членения на три части: тезис — антитезис — синтез.
«Дядюшкин сон» (1859) написан вскоре после возвращения из ссылки — проба пера после вынужденного отсутствия в литературе. Достоевский своим коротким вещам не придавал особого значения. «Бесы» (1871–72), может быть, величайший русский роман XIX, XX и, кто знает, XXI веков. Но между этими двумя спектаклями возникает неожиданная перекличка.
Оказывается, что плотность мысли и действия при инсценировке Достоевского не зависит от объема книги. «Дядюшкин сон» раз в десять короче «Бесов», но он требует от сцены тех же самых трех часов чистого времени, разделенных двумя антрактами.
И — что важнее! — в обеих постановках мы встречаем схожие стилеобразующие принципы. Забудьте об иерархии эстетик! В дело идет все: мелодрама, трагедия, фарс, цирковая пантомима, элементы театра абсурда. «Все это оттого, что вы начитались там какого-нибудь вашего Шекспира!» — сказала бы главная героиня «Дядюшкиного сна», лидер общественного мнения провинциального российского города Мордасова Мария Александровна Москалева. И не ошиблась бы: Достоевский как никто близок к Шекспиру, дерзко смешивавшему в своих драмах смешное и ужасное. Комизм у Достоевского оттеняет катастрофичность и бессмыслицу бытия. Чем больше юмора, тем страшнее финал.
Мы живем в катастрофически бессмысленное время, когда безумные идеи овладевают людьми, заставляют тратить неимоверные усилия для достижения цели, которая яйца выеденного не стоит, — и заканчивается все крахом. И потому нам так близок и понятен жестокий юмор Достоевского. «Бесы» на сцене превратились в триллер, охотно вбирающий в себя и сюрреализм, и приемы театра жестокости; «Дядюшкин сон» — в «мыльную оперу». Все тот же (мнимый!) трэш. О да, Федор Михайлович был гениальным мастером массовых, низких жанров. Как и Шекспир.
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ

И. Нартов (Мозгляков), Х. Контрерас (Князь К.), Л. Головатая (Москалева). «Дядюшкин сон». Русский театр.
Фото С. Красия
Действие обеих постановок происходит в провинции. Провинциальные истории. Чуть не сказал: провинциальные анекдоты, но вовремя оборвал себя… а может быть, не стоило обрывать?
Писатель по структуре своей, по дыханию абсолютно петербургский, Достоевский переносил действие в провинцию тогда, когда стремился высказать нечто чрезвычайно важное. Когда для наглядности требовалось обессмыслить происходящее, вынуть из него целесообразность — и тем подчеркнуть бесчеловечность и опасность случившегося.
То, что в действительности делал русский революционер Нечаев, было гнусно, кроваво, изуверски, но какой-то смысл имело! Бесовщина, квинтэссенцией которой становится образ Петра Верховенского, бессмысленна. Это нужно, чтобы развенчать нечаевщину, обнажить ее опасность и дать людям незамутненное представление о ней. Без поправки на бескорыстие тогдашних террористов.
Провинция у Достоевского всегда анекдотична, нелепа. Едва ли не сюрреалистична. От Мордасова из «Дядюшкина сна» до неназванного нашего города в «Бесах» и Скотопригоньевска (имечко-то каково!) в «Карамазовых». Сегодня провинция снова стала моделью бытия: в течение последних двадцати лет на всем постсоветском пространстве правит бал провинциальность (т. е. воинствующая некомпетентность, помноженная на самомнение и желание пробиться к кормушке). Как это реализуется в политике, известно. В искусстве это ведет к преднамеренному занижению планки, появлению писателей, артистов, художников и т. д. по блату, по праву наследования, по толщине родительского кошелька…
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ — ЭТО МНЕНИЕ ГРАНД-ДАМЫ ГОРОДА
Михаил Чумаченко ставит «Дядюшкин сон» в контексте тех связей и пересечений, которые объективно существуют в творчестве Достоевского. Хендрик Тоомпере решает «Бесов» в контексте истории террора. И оба — в контексте сегодняшнего дня.
Но Чумаченко ищет в классическом тексте неизбежно всплывающие мотивы современности. А Тоомпере пристраивает эти мотивы к тексту Достоевского, безжалостно кромсая и вновь сшивая сюжетные линии, подменяя авторскую композицию (обманчиво хаотичную) собственной.
Иного пути нет. В романе более 600 страниц, и то, что интересует режиссера в первую очередь, сюжетная линия бесов Николая Ставрогина и Петра Верховенского, начинается очень нескоро. Можно было, конечно, делать спектакль исключительно о террористах, но Тоомпере на это не решается. Он заявляет основную линию в первом акте лишь мельком. Ставрогин (Майт Мальмстен) и Верховенский (Ян Ууспыльд) появляются в высящемся на заднем плане зеркальном кубе, в мертвенном свете люминесцентных ламп. Куб этот, подчеркнуто противопоставленный псевдоклассицистскому дизайну барской гостиной на первом плане (сценограф Рийна Дегтяренко), в первом акте становится аэропортом (бесы прибывают из Швейцарии), а в третьем превращается в братскую могилу, куда сгружаются все жертвы террора. В любом случае — это бесовское пространство. Выморочное и бесчеловечное.
А затем первый акт становится царством первой дамы городка Варвары Петровны Ставрогиной, которая в исполнении Кайе Михкельсон кажется слишком уж прямолинейной и напористой. Варвара Петровна в романе могла быть и обходительной, и хитрой аки змий; в спектакле она только диктует свою волю… единственной безответной жертве ее морального террора Степану Трофимовичу Верховенскому.
Вот он-то сыгран замечательно. Обрубив прошлое Верховенского-старшего, как обрубают хвост охотничьей собаке, Тоомпере превратил милейшего Степана Трофимовича из человека, который когда-то что-то значил, в человека, ровным счетом ничего не значащего. Прошлые заслуги (мнимые или нет, неважно) сегодня забыты — как, к примеру, ничего не значат прошлые заслуги какого-нибудь заурядпрофессора и публициста, чье слово гремело в конце 1980-х, а нынче ничего, кроме жалостливой усмешки, не вызывает. Ничтожество, преисполненное чувства собственного достоинства. Райво Э. Тамм подчеркивает в своем герое барственность, ухоженность, самовлюбленность… но у всего этого слишком зыбкая основа, и, приняв гордую позу, Степан Трофимович немедленно конфузится…
Классический скандал по Достоевскому втиснут в первый акт; здесь есть где разгуляться Айну Лутсеппу, сочно сыгравшему капитана Лебядкина, но вообще первый акт «Бесов» кажется необязательным, потому что в дальнейшем действие пойдет по совершенно иному руслу.
В «Дядюшкином сне» в центре всего происходящего тоже находится провинциальная гранд-дама, Мария Александровна Москалева, законодательница мордасовских мод, общественного мнения, неутомимый борец за лидерство и собственное благополучие… Однако здесь она не только центральный образ, но и трагический.
БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЦУНАМИ
«Дядюшкин сон» — лучшая работа Русского театра за последние 15 лет — с тех пор, как покойный Григорий Михайлов поставил здесь свой контрреволюционный этюд — «Красивую жизнь» Жана Ануя. Прогремевший когда-то «Идиот» Юрия Еремина на фоне этой постановки кажется простеньким и иллюстративным (хотя блестящая игра Александра Ивашкевича в роли Мышкина помнится до сих пор).
Ставя спектакль о провинциальных страстях, Михаил Чумаченко вырывает театр из болота провинциальности, в котором тот барахтался более десяти лет. И оттого артисты играют как никогда: труппа-то в театре сильная, но только в самое последнее время она получила возможность доказать это делом.
Роль Москалевой стала триумфальной для Лидии Головатой. Точно так же, как роль князя К. — для Херардо Контрераса, роль Мозглякова — для Ильи Нартова и вроде бы второстепенная роль приживалки Настасьи Петровны — для Юлии Яблонской. Далее можно перечислить весь ансамбль — в спектакле с 14 действующими лицами нет актерской работы, выбивающейся из общего, очень высокого, уровня.
Героиня Головатой — мастерица поднять в стакане воды такую бурю, которая захлестнет весь город Мордасов, наделает в нем немалые разрушения… но для самой Марии Александровны так и останется маленьким необходименьким скандальчиком. Что он обернется против нее самой, героиня Головатой, естественно, не подозревает… Тут типичное для Достоевского трагифарсовое несоответствие цели — и энергии, затраченной на ее достижение.
Но борется-то Мордасова за счастье дочери Зины (Екатерина Жукова), когда-то неосторожно пустившейся в роман с бедным чахоточным Васенькой. (Тут Достоевский ставит под сомнение аксиому: беден, но честен и благороден. Никакого благородства в Васеньке не было; из-за его нескромности город узнал о романе; Зина если не совсем опозорена, то где-то около того, во всяком случае, мать спешит выпихнуть ее замуж… хотя бы за старого — но богатого! — маразматика). Зина держится отчужденно, чуть сомнамбулически: ей неприятны хлопоты матери, она боится со временем стать такой же… но в глубине души знает, что капитулирует. И презирает себя за это…
Марии Александровне необходимо убедить дочь. Точнее — убить в ней остатки совести. Мать взваливает на себя трагическую вину в полной мере. Огромный монолог в финале первого акта актриса проводит с удивительной мощью, удерживая зрительское внимание на протяжении чуть ли не 20 минут… Но есть у нее еще один монолог, во втором акте, где интрига, задуманная Москалевой, отражается в пантомиме Мозглякова — Ильи Нартова. Но об этом чуть позже.
А пока — о князе К., роли, в которой Херардо Контрерас напоминает, что он в первую очередь всетаки большой трагический артист, тонко чувствующий боль своего героя, драму человека, у которого все в прошлом… кроме удивительного для такого полуразрушенного старца романтического восприятия жизни. Когда Зина, соблазняя князя, поет романс, мы слышим не пение (в спектакле его нет), а музыку души князя.
В монологах его есть прямые цитаты из Гоголя (Достоевский то подчинялся обаянию гоголевского фантастического реализма, то старался избавиться от него), однако самым гоголевским персонажем в спектакле становится все же не князь, а Мозгляков.
БЕСОВЩИНА — СГУСТОК ПУСТОТЫ
Hapтов играет своего Мозглякова как гоголевского персонажа, поселившегося в повести Достоевского, но осмысленного (много позже) Мережковским, который и в Хлестакове, и в Чичикове видел гоголевского черта (читай — беса!). Воплощение пошлости. Сгусток пустоты, принимающей любые формы.
Мозгляков у Нартова не злодей (он даже по-своему порядочный человек, т. е. подлости делает неохотно, а затем искренне кается), просто он — ничто, зеркальное отражение чего угодно. В начале — образа Наполеона (каким тот видится провинциалу), затем апломб с Мозглякова слетает, шутовское начало обнажается… особенно в той сцене, где Мозгляков молча, мимикой и жестами, повторяет «инструкции» Москалевой.
Мелкий бес Мозгляков, относительно безобидный, — предтеча бесов из романа.
Тоомпере в «Бесах» опирается на ту же сыгранную команду, которая была у него в «Сюрреалистах». И кое-что заимствует оттуда. Между революционерами-террористами из романа Достоевского, для которых главным было раздуть мировой пожар, процесс разрушения интересовал их больше, чем невнятная цель, становящаяся, в конце концов, апофеозом разрушения, и художниками-бунтарями есть точки соприкосновения. Чисто эстетический лозунг «Сюрреалистов»: «Возьми револьвер и стреляй в толпу. Только такое искусство способно воздействовать на жизнь. Мы нуждаемся в искусстве, которое расчистит площадку, перевернет мир вверх тормашками и плюнет в хари этим сонным мещанам» — сродни бредовым (увы, время показало, что вполне жизнеспособным) идеям Петра Верховенского: «Мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ… Мы провозгласим разрушение… почему, почему, опятьтаки, эта идейка так обаятельна! Но надо, надо косточки поразмять. Мы пустим пожары… Мы пустим легенды…».
ТЕРРОР
Как и в «Сюрреалистах», очень многое определено яркими индивидуальностями актеров. Демоническое обаяние Майта Мальмстена (Став рогин), дерзкие и глумливые клоунады Яна Ууспыльда (Верховенский-мл.) и простодушная основательность Маргуса Прангеля (Кириллов) — тот материал, из которого режиссер строит образную систему и систему взаимотношений своего спектакля. Во втором акте в парных сценах Ставрогина и Петра Мальмстен становится белым клоуном, а Ууспыльд — рыжим. Клоунада тут — та самая острая форма, которую так любит Тоомпере и которая как нельзя нагляднее раскрывает волю Достоевского. Он изымал логику и конкретную цель из нечаевщины, которая дала толчок к написанию романа, оставлял только бессмысленное человеконенавистничество, террор ради самого террора… и оказывался пророком, видевшим на 130 лет вперед. И Тоомпере, зная, каковы последствия, с полным правом увеличивает число жертв террора, делая его тотальным.
Просчет инсценировки и спектакля (скорее всего, вызванный техническими причинами, точнее — количеством актеров, которых мог получить режиссер) заключается в том, что мир бесовщины сужен и скомкан. Взаимоотношения Ставрогина и Верховенскогомладшего решены точно: Ставрогин Верховенскому необходим, потому что герой Ууспыльда ощущает в себе недостаток воли и храбрости: загнанный в угол, он хитрит, юлит… и ужасно жалеет, что в нем нет ставрогинской прямоты, великолепного цинизма, позволяющего идти напролом. Неуязвимость (с точки зрения Петра) Ставрогина в том, что он самодостаточен. Ему ничего не нужно, даже революция. Пожалуй, зря режиссер с самого начала наградил Ставрогина орденским знаком, говорящим о причастности к тайному обществу. Это противоречит сложности отношений двух бесов. Сходство их лишь в том, что оба стоят на очень зыбкой почве. Но Петр ищет способ самореализоваться через переустройство мира, а Ставрогин — через обретение своего Я. Кто я таков? — вот вопрос, который постоянно колотится в сознание Ставрогина. Ответ «Князь» (т. е. «Князь тьмы», Дьявол) он получает из уст Марии Лебядкиной (Мерле Пальмисте в роли Хромоножки очень далеко уходит от своих привычных красавицвамп и создает трагический образ юродивой, которая видит больше, чем нормальные люди).
Но бесовщина опасна прежде всего своей соблазнительностью. А соблазненные как раз остались за кадром. Шигалева (один из самых жутких образов романа) нет вовсе; Шатов, убийство которого скрепляет кровью сообщество бесов, в исполнении Анти Рейнтхаля бесцветен; скорее уж противопоставлен террористам наивный юнец Маврикий (Михкель Кабель), дуэль которого со Ставрогиным решена очень эффектно.
Эффектов в спектакле, как обычно у Тоомпере, много. Иной раз они великолепны — как ночная сцена Ставрогина и Лизы (Бритты Вахур) или массовые убийства в «бесовском» секторе сцены. Иной раз кажутся аттракционом ради аттракциона, как паломничество Степана Трофимовича, надевшего драную хламиду и взявшего в руки посох. Стремление к актуальности для режиссера важнее, чем верность букве романа: сегодня терроризм остается безнаказанным, власти по глупости своей не видят убийц под собственным носом. Липутин (Лаури Лагле) — этот образ в спектакле синтезирован из нескольких романных, в том числе из образа жандармского ротмистра фон Лембке — устраивает обыск у Верховенского-старшего, но необыкновенно снисходителен к Верховенскому-младшему. Гипотетическое инакомыслие волнует спецслужбы больше, чем реальная угроза террора.
Ради того, чтобы высказать это, Тоомпере готов пожертвовать гармонией и создать несбалансированный, местами перегруженный, местами огорчительно разреженный сценический триллер.
Гармония — странным образом вытекающая из сбивчивого, безумного ритма, которым пропитан весь Достоевский, — сохранена в спектакле Михаила Чумаченко «Дядюшкин сон». И даже покосившаяся церковь (сценограф Яак Ваус), парящая над сценой, не кажется слишком банальным визуальным образом. Мир разрушен… и нечего в нем искать дороги к храму; все дороги ведут не в Рим, а к руинам… Что при жизни Достоевского, что сегодня.
Май 2007 г.


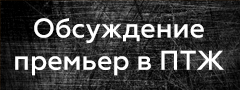



















































































комментарии