Леонид Попов (1966–1999) — петербургский журналист,
театральный критик, на протяжении 1990-х
годов театральный обозреватель «Вечерки», один
из основателей, учредителей, позже — зам. главного
редактора «Петербургского театрального журнала». В № 50—51 мы начали публикацию писем Лёни.
Продолжаем ее.
Л. ПОПОВ — Л. А. И В. В. ПОПОВЫМ
27.06.1985
Здравствуйте, дорогие родители!
Во-первых, ничего. Жить можно.
Отвезли в Осиновую рощу человек триста-четыреста.
Там раскидали по учебкам и родам войск.
Сертолово-II — автобат. Полгода служишь, присваивают
сержанта и направляют в войска.
Команда хорошая, почти все ленинградцы, и все
студенты. ЛИСИ, ЛГПИ, ЛГУ, Горный, Политех и др.
и др. Среди общих знакомых — и Мишель, и Матусевич,
и другие.
Кормят прилично. Не голодаем. Работой пока не мучают.
Присягу примем где-то через месяц. Вообще распорядок
простой: утром занятия, после обеда работа.
Ни того, ни другого пока нет, до июля. Большей частью
наводим порядок в казарме. Ну, и доводим себя
до кондиции: стрижемся-бреемся, пришиваем погоны,
подворотнички, вкалываем звездочки в пилотки,
на лацканы — «бабочку», знак автовойск. Такие дела.
Пока все.
Л. Попов
Л. ПОПОВ — М. ТРОФИМЕНКОВУ
03.07.1985

Л. Попов.
Фото из архива редакции
Привет, Мишка!
Пока у меня все нормально. Сначала направили
в часть, никак не могли определить место. Набралось
нас во взводе человек 60 студенческого набора, и говорили,
что расформируют, что раскидают по ротам,
что переведут в пехоту — чего все страшно боялись — и так далее. В общем, шла борьба за существование.
Наконец отсеяли и меня, как не умеющего
делать подъем переворотом на перекладине, перевели
этажом ниже, в другую роту, но, во-первых, это
уже окончательно, место мое законное на полном основании
и бояться больше нечего, во-вторых, здесь
спокойнее. Нет сильных доставаний со стороны сержантов,
«отбой-подъем» и прочего. Гораздо спокойнее.
Вот так и живу.
Иногда выгоняют на работы. Территорию убирать.
Подвал разгребать. Сегодня — искать кота под койками.
Кто-то кому-то сказал, что три дня назад видел
в казарме кота. И вот пять человек ползали под койками,
шептали «кис-кис-кис» и т. д. Если бы одним из основных наставлений Добротворского не было воспринимать
все всерьез, то я бы на гражданке сильно
смеялся над этим. Да.
Кота мы, кстати, так и не нашли.
Пишите! Черт вас дери!
Курсант Попов
Л. ПОПОВ — М. ЭПШТЕЙНУ
05.07.1985
Привет, Мишка!
<…> Самое ненормальное ощущение — что тебя
нет — у тебя ничего нет — ничего твоего нет — вообще
ничего нет — это как-то ошарашивает. Вообще,
понятное дело, ко всему привыкаешь.
Хотя присяга будет числа 21, уже посылают в наряды.
Пока не тяжело. Хуже — не хватает физ. подготовки.
Плевать я хотел на нее.
Пригодились мои способности быстро и красиво
писать, пером плакатным чертить и т. п. То и дело отрывают
от работы — от уборки территории, мытья
полов и пр. — зовут писать списки, бумаги и прочее.
Насколько это хорошо, пока неизвестно. Поживем —
увидим.
Пиши.
Курсант Попов
С. ДОБРОТВОРСКИЙ — Л. ПОПОВУ
02.07.1985
Мир Вам, старина,
получил Ваше письмо и с уважением констатирую
оптимизм и твердость духа. Молодец! Держите хвост
трубой. Сегодня уже 2 июля, значит, служба укоротилась
на целых 6 дней. Припомните эти слова, когда останется
всего 6 дней, и поймете, насколько это много.
Особенно ценно Ваше спокойствие в связи с тем, что
сам я в сходных обстоятельствах ныл, как пожарная сирена,
и воплей в письмах моих с избытком хватило бы
озвучить любой из спектаклей молодежного театра…
А на подъем переворотом плюньте с самого высокого
турника. До армии я делал его раза три и сейчас сделаю
раза 3–4. А вот в армии больше одного (плюс напряжение
кишок, сопли пузырями, озноб, жар и обильный
пот) сработать так и не научился. Утешаюсь пустой
арифметикой — сапоги книзу тянули. <…>
Теперь о новостях светских. Таковых нет. На днях,
против обыкновения зайдя в «Сайгон», среди тамошней
накипи встретил Трофименкова. Наш общий знакомец
стоял, обвив левую ногу правой, имея на голове
берет. Сходство с гвоздем необыкновенное. Я же, верный
своему слову, отойдя на лето от дел театральных,
взялся за живопись и творю нынче итоговый шедевр.
Трофименков посетил и дерзко сравнил мое творение
с работами известного Вам Кирилла Миллера. От негодования
я чуть было не изничтожил картину…
<…> Не унывайте, Леня. Все время Вас вспоминаем,
и, если правы парапсихологи, Вы должны буквально
купаться в экстрасенсорном излучении наших добрых
чувств.
Будьте здоровы. Пишите.
Л. ПОПОВ — Е. ЕФРЕМОВОЙ
17.07.1985
Привет, Катюша!
Если я чего-то не то тебе написал в прошлый раз —
извини. Было довольно поганое настроение. Впрочем,
другого здесь ждать не приходится.
Говорят: армия отучает думать. Я познаю, как это
достигается. Оказывается, это происходит вполне естественным
манером. Размышлять, задумываться —
все это просто мешает. Если хочешь жить хорошо, действуй
расторопнее, не задумываясь. Тогда только и будет
все отлично. Иначе начнешь «тормозить», как выражается
армейский люд, и будут неприятности. Забитый
до отказа день, когда нет ни одной минуты свободной,
только на это работает.
Как ни странно, это помогает выжить. Начни я смотреть
на все в черном свете (а как иначе можно глядеть,
если вглядываться), я бы поник и захирел. А так — воспринимаешь
все как должное. Не возмущаешься, не удивляешься. Внутренний протест остается внутренним
и скоро гаснет.
Иногда сержантам надоедает нас третировать.
Тогда они развлекаются — на свой сержантский манер.
Превращают учение в хохму. Вот был недавно показательный
случай — учение по тактике мы отрабатывали
следующим образом — выстроились по лесу и пошли
собирать грибы. Было объявлено соц. соревнование
на лучший гриб. Поймали ежика… В общем, маразм.
Потом все встало на круги своя. В следующий раз мы
уже бежали 1 км в противогазах. Это до чрезвычайности
любопытное занятие. Советую тебе никогда не испытать
его.
Что еще? Да все, пожалуй. Так и живем. Такое чувство — ходим по лезвию ножа, только бы не сорваться —
не так подошел, не так сказал, не так посмотрел… и т. д. и т. п. Все не то, что на бумаге,
в голове не укладывается.
Ну, и еще радость — это письма. Это да. К счастью,
мне они не перестают идти. Спасибо вам всем.
До встречи.
Л. Попов
Л. ПОПОВ — Е. ЕФРЕМОВОЙ
22.07.1985
Привет, Катюша!
<…> Вчера мы уже принимали присягу. <…> К родителям
нас с утра не пустили. Им дали маленький автобусик — сопровождать нас в Питер. Когда в него сели
все желающие, у него лопнули рессоры. Тоже забавно.
Что из себя представляет сама присяга, ты, может
быть, представляешь. Стоят все строем, выходят на (нрзб) и докладывают торжественную клятву. Дело
обычное. Поклялись все нормально. Теперь мы полностью
ответственны за все. К нам применимы все меры
наказания, вплоть до высшей. Очевидно, до этого не дойдем. Но наряды сейчас посыплются на нас во всем
своем многообразии…
А что за премьера в Театре Комедии?
А как фестивальные фильмы?
А что в «Спартаке» показывают? Что за «О, счастливчик!»? <…>
Л. Попов
С. ДОБРОТВОРСКИЙ — Л. ПОПОВУ
28.07.1985
Приветствую Вас, актер в запасе,
и уж коли на то пошло, то не в запасе, а в затянувшемся
отпуске. А во-вторых, поздравляю с боевым
крещением. Пройти «обкатку» и писать об этом без
соплей и восклицательных знаков — дело нешуточно-мужское.
Вы накидали кучу вопросов на предмет студии, планов,
Кайдановского и проч. Сразу ответить будет, пожалуй,
трудновато, да и не хочется комкать. Вы же знаете,
мои творческие планы при всей своей элементарной содержательности,
облечены в крайне путаную и туманную
форму. То же касается и фильмов Кайдановского.
Из часа экранного времени я лично вынес только одно:
заразный мужик Тарковский. Выражаясь образно, если
через час по получении моего письма Вас вызовет замполит
и откомандирует на «Ленфильм» снимать пародию на Тарковского, скажем, для ленфильмовского капустника,
получится зрелище, примерно равное тому,
что Кайдановский выдает за свой творческий поиск.
Я со сходной задачей справился бы хуже. Во мне сидит
куча бесполезных знаний, среди которых, например,
некоторые примитивные основы киноликбеза.
Я знаю, что нельзя снимать лицо на контровом свете
и без толку грешить киноиероглифами 100-летней давности.
<…>
Не обращайте внимания. Это я так резвлюсь по причине
застоя критического пера. В целом смотреть короткометражки
Кайдановского можно. И даже небезынтересно
местами хотя бы из-за литературной основы
(Борхес, «Сад, где ветвятся дорожки» и Камю
«Иона, или Художник за работой»). Выбор, ясное дело,
сугубо пижонский — проза вызывающе антиэкранная.
На этой канве плетется довольно однолинейная
символика, круто заправленная Востоком, хотя меня
не оставляло ощущение, что свои познания о Востоке
Кайдановский черпал в лучшем случае из школьного
учебника географии.
О чем? Не знаю. Я как-то, слава Богу, разучился сводить
искусство к нравственным императивам и формулам.
Нужно смотреть, что, надеюсь, Вам и удастся
по возвращении.
То же самое и по поводу фестиваля. Лучшие картины
из бывшей в Ленинграде программы наверняка
еще замелькают. Смотреть, по-моему, стоило три картины:
Иоселиани, «Париж, Техас» и «Деньги» Брессона.
Феллини и Висконти меня лично малость разочаровали.
Увы, увы, увы — это уже вчерашнее кино. Как ни скорбно,
но сегодня нужно уже другое. Это особенно понятно
после «Парижа, Техаса». <…> А Иоселиани обаятелен,
как всегда, и даже вдвойне — Франция. Брессон же
просто познавательно интересен. Он все-таки самый
эстетствующий режиссер в мире.
Ладно, я замолкаю, чтобы Вас не дразнить. Уверен —
Вы все это еще поглядите. <…>
Держите хвост трубой.
Добротворский
М. БУСЫГИНА — Л. ПОПОВУ
01.08.1985
Лёня, Лёня, привет!
<…> Здесь фестиваль. Самое лучшее документальный
фильм «Прекрасный Китай». Далее: Феллини. Мне
понравилось очень, больше, чем «Армакорд», «Восемь
с половиной». <…> Иоселиани. Отвратительная чушь
на какие-то социальные проблемы.
Я говорила Добротворскому, что все социальные
проблемы — суть чушь, что сейчас они не актуальны.
Конечно, мы от них зависим, но не они полностью делают
нас нами, делают наши лица. Я надеюсь, что такая
сугубо социальная вещь, как армия, не доведет тебя до погибели. В общем, я против спектакля про революцию
68-го. Надеюсь, что ты напишешь, что ты думаешь
по этому поводу, и вообще, свои мысли о дальнейшем
репертуаре.
А из-за Иоселиани страшно обидно. Этот фильм —
не его лицо.
Бергман — просто психологический (нрзб). Ну, в общем,
мысль, этюд к тому, что было поставлено в прошлом,
в «Земляничной поляне». <…> Далее: фильм
Висконти. Ничего более страшного в жизни я не видела.
При этом такая положительная черта: в этом нет
ни капли извращения, нельзя сказать, что тебе показывают
садистские сцены, кровавые бойни, устрашать
чтобы. Так — что творится под солнцем, в чем проявляется
жизнь. Вот тебе и нравственный урок в искусстве.
<…>
Ну, до свидания. Держись.
Княжна
Л. ПОПОВ — М. ЭПШТЕЙНУ
29.07.1985
Привет, Мишка!
Кому мне еще пожаловаться, как не тебе?
<…> Приучаешься радоваться любой, самой незначительной
мелочи. Не послали в наряд в столовую — удача. Не заметили невычищенной бляхи — повезло.
Прикорнул на задней парте на занятии — ура.
Отправили вместо мытья полов на другую работу —
жизнь прекрасна и удивительна. Мытье полов — дело
не тяжелое и при наличии щетки и тряпки не утомляющее,
но довольно нудное, поскольку ежедневное.
Все повторяющееся из раза в раз — бедствие не только
само по себе, но и как периодически существующее.
Напротив, все неординарное, единичное, разовое, случайное — прекрасно, независимо от его существа.
Пример. Вместо уборки территории (плевое дело,
ты работаешь дворником — тяжело ли прохаживаться
с метлой и лопатой?) берут человек сорок и, ничего
не объясняя, погружают в машину и увозят. Во-первых,
за пределы части — уже здорово. Во-вторых, подальше
от уборок, мытьев, чисток, смазок и т. п. и т. п., а нужно,
оказывается, дело вообще невиданное — перенести
остановку в поселке. Железную стенку с крышей и скамейкой,
автобусную остановку, в сторону на полтора
метра, в другие вырытые для опор ямки. Сорок человек
хватают ее где попало и волокут. Чуть не надорвались,
вывалялись в грязи, взмокли все, а считаем — повезло.
Потому — дело необычное и в нашей убогой жизни
развлекающее.
В воскресенье мы не отдыхаем, а проводим спортивный
день. До завтрака бежим кросс — 1000 м, после завтрака
продолжение следует — стометровка, метание
гранаты, подъем переворотом и полоса препятствий.
Вместо этого наш взвод в ряду других из разных
рот вывозили на работу в поля. Прореживали свеклу
в деревеньке Кайболово — не деревенскую, естественно,
а совхозную. Везли нас туда почти три часа, и через
весь Ленинград, т. е. трудно было придумать другой
маршрут для точного определения слов «через весь
Ленинград» — из Парголово в Шушары, с Выборгского
шоссе на Московское. Ну, не через центр, а по краям —
Муринский ручей, Пискаревка, Охта, Правый берег,
проспект Славы. Работы было много, а времени мало.
<…> Поэтому на качество работы пришлось плюнуть.
Что ты оставишь совхоз без свеклы — на это никто не посмотрит. А что ты отстанешь — получишь наряд.
И вот, чтоб успеть, вместо прополки идет сплошное выдирание
всего подряд — свеклы вместе с сорняками.
Обед — это well! По куску мяса каждому! И стакан
молока… За молоко я готов был выдернуть раза в три
свеклы больше. Из жратвы больше всего худо без молока — не без мяса, не без мороженого, не без конфет.
Вот такие дела.
На сем заканчиваю, остаюсь ожидающим писем
Курсант автобата Л. Попов (Бомжир)
Л. ПОПОВ — Е. ЕФРЕМОВОЙ
06.08.1985
Здравствуй, Катюша!
Извини, что не смог сразу ответить — времени не было абсолютно. Не то чтобы чем-то был занят — делом
каким-то — просто не давали времени свободного.
Раз ты свободен — иди наводи порядок. По несколько
часов, когда нет другой работы, стоим у своих кроватей
и изображаем, что мы усиленно их третий час
поправляем.
В общем, воинская жизнь — это вещь монотонная.
Хуже всего, что задолбывают, отупеваешь. Раньше думал — это шутка, нет, верно. Порой каких-нибудь элементарных
вещей сообразить не можешь, как то или
другое сделать. Самому смешно и грустно. Память дико
слабеет. Когда тебе не дают возможности не то чтобы
ее тренировать — просто грузить на нее что-либо регулярно,
она скидывает вон то, что там имелось: даты,
цифры, факты, адреса и телефоны, имена и фамилии.
О том, что наступает профессиональный наш праздник
(неофициальный, разумеется) — День археолога
(15 августа), вспомнил, только когда получил письмо
с поздравлением. А отмечал его с каких пор! В общем,
как выражаются в одной малоизвестной, но передовой
театральной студии — «Беда!» <…>
Спасибо за информацию о театрах и кино нашего
города. Думаю, что я довольно полно освещен о фестивальной
кинематографии. <…> К сожалению, не нашел
я возможности читать газету «Смена». Здесь, в части,
выписываются: «Ленинградская правда», «Правда»,
«Известия», «Комсомолка», «Советский спорт»,
«Красная звезда» и «На страже Родины». Театрального
материала почерпнуть можно немного, но кое-что попадается.
То А. Степанова, актриса МХАТ, возмущается
критиками, то А. Абдулов дает интервью, то еще
что-нибудь. В «Ленинградской правде» был небольшой
обзорчик о Саратовском театре за подписями:
Г. Романова, П. Романов.
Жизнь моя была омрачена свалившимся на мою голову
ужаснейшим нарядом по хоз. двору. Дело в том,
что солдаты тоже хочут жить и, значит, кушать мясо,
а не овес и сено. Поэтому существует при части хозяйство,
где в теплых помещениях наливаются соками
огурцы, укроп и поросята. Если первые двое для наливания
не требуют особенного ухода, то последним он
необходим. Жуткое дело. Сутки почти без сна, грязнейшая
работа — чистить свинарник. Описывать даже не хочется — можешь только мне поверить, что ты этого
себе не представишь.
Кошмар и еще раз кошмар. <…>
Л. Попов
Л. ПОПОВ — М. ЭПШТЕЙНУ
06.08.1985
Привет, Миша!
<…> Физическое изматывание здоровых организмов
(так мы расшифровываем ФИЗО) не дает сил на духовную работу. Правда, стопроцентно культуры нас
не лишают. Сержанты гоняют пластинки (с осточертевшим
донельзя — то есть настолько, что готов разбить
не только проигрыватель, но и пластину c Михаилом
Боярским и приятнейшей, но не в столь больших дозах
вещью «Спейс»). Еще нам иногда по субботам показывают
кино. Случайно показали один очень и очень
милый фильм, грузинский — «Кукарача». По одноименной
повести нами презренного, а ныне покойного
Думбадзе. Очень милый, грустный фильм. В армии
такое смотреть — лишний раз себя по душе наждаком
проскребывать. Впрочем, слава Богу, что показывают…
<…>
Привет!
Л. Попов (Бомжир)
М. ЭПШТЕЙН — Л. ПОПОВУ
14.08.1985
Здравствуй, Лёня!
Уверяю тебя, Лёнька, позже ты будешь с благодарностью
и смехом вспоминать все эти наряды, особенно
в свинарник. Согласись, что они вносят хоть какое-то разнообразие в эту абсолютно однообразную жизнь.
Мне повезло, я за свою недолгую жизнь в армии ни
разу не ходил дважды в один и тот же наряд. <…>
Слушай, есть такой журнал «Советский Экран»?
А то статью я прочел, а название журнала не запомнил.
Кажется, именно «Советский Экран». А статья
там Ю. Нагибина о фильме «Бал», очень ругательная.
Пишет о том, что форма, которую выбрал режиссер, не нова, что сделан фильм очень небрежно. Что по-настоящему
новых находок мало и т. п. Я, к сожалению, судить
не могу, т. к. в Киеве этот фильм еще не шел. Так,
констатирую факт наличия такой ругательной статьи
Нагибина. <…>
Кстати, о Боярском. Он сейчас гастролирует в Киеве.
Точнее, сегодня последний день. Он, конечно, не один.
Одному ему, наверное, на программу было бы не набрать.
С какими-то артистами московской эстрады. Но билеты у входа упорно спрашивают. Я решил, что лучше
прочту лишний рассказ О’Генри, чем буду тратить силы
и время на Боярского. И, думаю, правильно сделал.
Лёнька, потерпи. Что тут осталось? Месяц до приказа
и еще месяц. После учебки жизнь твоя изменится. По крайней мере, думаю, что такого ФИЗО больше
уж не будет. Это мероприятие, как я понял, характерно
именно для учебных частей. <…>
До свидания.
Миша
Л. ПОПОВ — Е. ЕФРЕМОВОЙ
16.08.1985
Здравствуй, Катюша!
<…> Из немногих приходящих сюда газет кое-что
представляю о современной театральной жизни. По связке репертуара в «Ленинградской правде» узнал
о премьерах в Комедии и Ленкоме, вообще, газеты, как единственное печатное слово, имеющееся в наличии,
пытаюсь читать в любое свободное время. <…>
Все в жизни уравновешенно. После пота, грязи, сена
и т. п. настал праздник: теплая ванна и чашечка кофе.
То есть буквально. Еще не сдал наряда — вызывают
в штаб. Бегу — переодеваюсь — бреюсь — и т. д. и т. д.
Пока доплел до штаба, прошло около часа. Я идиот!
Если б я знал, зачем вызывают, пробежал бы за 2 минуты.
Ну, а в штабе вручают бумажку, а в ней написано:
«Попову Леониду… отпуск по поощрению на двое суток». Вот это номер.
Первые сутки, впрочем, были уже на исходе. Дальше
был инструктаж «Как не попасть в комендатуру» — отдавать
честь, не нарушать формы одежды и пр. Дальше
я сажусь на автобус и еду домой.
Что сказать! Это непередаваемо. Из роты, из наряда — в теплую ванну, на родную Кирочную, к любезным
родителям. Да!..
Они ждали. <…> Вот. Дома есть дома. Это понятно.
Увы — не вырвался в театр. Смешно? Но профессия
обязывает погоревать по этому поводу. Хватило мне
и кино. В «Спартаке» бушевал Фантомас в компании
комиссара Жиова. Это безумно смешно. Виделся с друзьями — их никого в городе не осталось — кто в экспедициях,
кто на юге, кто на даче — ну, известное дело.
Собрал всего троих. <…>
Привет!
Л. Попов
М. ТРОФИМЕНКОВ — Л. ПОПОВУ
25.08.1985
Привет!
<…> Приступаю к очень важному. Есть в Ленинграде
такой художник Георгий Ковенчук. Лет ему под 50, он
член Союза, но на выставках бывает немного его работ — всегда небольших, но очень изобретательных,
очень графичных, очень живых и интересных, часто
использующих фактуру чего-нибудь, например оберточной
бумаги. В общем, такие работы, которые можно
обвинить в том, что у нас именуют «формализмом»,
хороший художник. Иллюстрировал Хармса. Недавно
после выхода «Иван Иваныча Cамовара» с его рисунками
редакция получила возмущенное письмо от дамы,
купившей книжку для дочки; дескать, наверное, этот
Хармс по знакомству у вас печатается, передайте ему,
что нечего писать, если таланта нет, а художник Хармсу
под стать: такое же безобразие. По-моему, лучшего отзыва
не придумать. Кроме того, он очень живой человек,
интересующийся всем, в чем нет засушенности
и
есть искренность, — то есть человек, возраст которого
не определяет круг его общения. Учился он вместе
с моей мамой, они дружат. Раньше я знал его очень
поверхностно, а тут он оказался в том же поезде, в котором
я ехал в Нимфей. Я много времени провел в пути
с ним, подружился. Потом он приезжал с сыном и женой
в Нимфей, ко мне в гости. В дороге выяснилось,
что у него в жизни есть увлечение Маяковским, которого
он иллюстрировал, которым (повторяюсь) действительно
увлечен. Где-то в театре (кукол, что ли?) он
оформлял «Клопа» — других возможностей у него не было. <…>
Мы говорили с Ковенчуком о разных предприятиях
вроде театров-студий, ЛИТО и т. п. И тут, без всякого
повода с моей стороны, он сказал, что мечтает
в каком-нибудь молодом интересном театре-студии
для души оформить спектакль по Маяковскому.
Естественно, я рассказал ему о нашем театре, пригласил
на спектакль. Добротворскому я еще не рассказывал,
это тема не для телефонного, а для обстоятельного
личного разговора, а такого пока не было. Не знаю,
как он отнесется. Я сам думаю, что сотрудничество
с Ковенчуком — это было бы здорово, с одной стороны,
он крупный (по качеству, а не по титулам), хороший,
молодой (по духу) профессиональный художник,
мастер, с другой стороны, его участие может и сыграть
роль в придании нашему театру известности. В общем,
было бы здорово. <…>
Рассказывал я о нашем театре в экспедиции. Обещал
приглашать на спектакли. Кроме того, кое-кто, может
быть, попробует и присоединиться к нам. Правда, в городе
люди меняются по сравнению с тем, какие они в экспедиции — становятся занятыми, обеспокоенными,
более замкнутыми, но кто-то все-таки придет. Хочет
прийти некто Макс (если Добротворский его возьмет,
то будет уже три Макса). Ему года 21—22—23, он что-то
только что кончил техническое, очень живой человек,
жил я с ним в одной палатке, он и с Володькиным подружился,
очень он неусидчивый и постоянно теребит
окружающих — например, гонял нас с Володькиным
ночью купаться, потому что вода светилась. Зрителем
он нашим точно будет, а может быть, и актером.
Володькин был, кажется, первым, кого я увидел в три
часа ночи, когда мы на попутке приехали в лагерь. Он
стоял посредине лагеря, неколебимо и величественно,
как Монумент, со значком «Пьянству — бой!» на груди.
Значок в какой-то момент разбили, но непьющие
действительно видели в нем духовного вождя. На День
Археолога он поставил спектакль. Поставил он что-то,
что было по фабуле «Золотым ключиком», привязанным
к Нимфее, а по тексту — гениальным литературным
созданием, требовавшим гениальной режиссуры
и хотя бы послушного поведения актеров. Было много
эффектов. Например, актеры (11 человек) въехали на площадку-сцену на машине легковой, на которой приехали
два человека из Москвы. Как они туда поместились!
Все было придумано с размахом и очень театрально.
Но актеры часто подводили, и больше всего
(между нами) усилий, чтобы испортить спектакль
(по ее мнению, улучшить) приложила участвовавшая
в нем старшая дочка Мачинского по имени Марина —
дама очень уверенная в себе и, по-моему, не слишком
умная. Еще один актер (крайне нетрезвый) периодически
уходил со сцены в публику, чтобы погладить по
голове какого-то ребенка и сказать ему: «Какой хороший
мальчик! Хочешь конфетку?» Мне этот маразм
понравился, я принял его за режиссерскую находку,
а Володькина это раздражало. Сам он был без голоса
совершенно, играл директора театра, дающего представление,
глотал сырые яйца и постоянно ругал на чем свет стоит актеров. Я полагал, что и это — часть
пьесы, но, по-моему, делал он это всерьез. Был введен
персонаж — переводчик (так как предполагалось, что
пьеса идет по-итальянски) — на самом деле, суфлер,
так что текст звучал дважды, сначала его произносил
«переводчик», а потом актеры. Но и здесь их невнимательность
часто вредила. В общем, Виктор Петрович
сразу после спектакля был очень недоволен, а вернувшись,
рассказывает с юмором и страшно смешит слушателей.
Такие дела.
Бывая в Керчи, я рылся в букинистическом магазине.
На украинском языке есть все что угодно — я уже
не говорю о советской литературе, но стоят и Фолкнер,
и Брехт, и Кортасар, и Карпентьер, и Гессе, и тот, и этот,
и что душа ни пожелает. На русском — гораздо беднее,
но много журналов. Я купил «Пойти и не вернуться»
Василя Быкова и «Почетного консула» Грэма Грина.
Кстати, сейчас, на даче, я читаю пьесы Льва Толстого
и злюсь: для театра они непригодны, а фантазии у него,
по-моему, вообще не было.
Читал прозу Шефнера — не нравится, как-то все
это бессмысленно. Умер Белль. Стругацкие написали
роман «Волны гасят ветер» — те же герои, что
и в «Обитаемом острове» и в «Жуке в муравейнике». Еще не читал, зато прочитал целиком «Жука…».
Гениальная вещь. По телевизору был Международный
вечер поэзии, вел Евтушенко. Он очень торжественно
обставил появление, как он сказал, «любимого поэта
и певца молодежи США» Боба Дилана. По-моему, он
ждал бурного восторга зала, но все сидели с каменными
физиономиями. Дилан спел свою самую знаменитую
песню «Порыв ветра» и выглядел очень постаревшим
и больным. Рассказывают о том, что наши студии
заполнены иностранцами, делающими у нас колоссальные
совместные постановки. Американцы снимают
«Петра Великого», французы «Девяносто третий
год», а самый знаменитый режиссер вестернов,
которого у нас всегда страшно поносили, — Серджио
Леоне — будет делать фильм о революции по сценарию
Нагибина. Ходит даже слух, что Дэвид Боуи готовит
какую-то совместную постановку. <…>
Уф! Рука устала писать. Если не ошибаюсь, я реабилитировал
себя за долгое молчание. Продолжение следует.
До скорого свидания.
Миша
Л. ПОПОВ — Л. А. И В. В. ПОПОВЫМ
24.09.1985
<…> Съездили мы от нечего делать в Песочную,
там просто спокойно погуляли, пообедали в гражданской
столовой грандиозной пищей (о! о! — кусок
мяса! — помидоры!) не хуже заводских обедов.
Сходили в кино — какая-то муть («Неудобный человек»). В. Самойлов — председатель колхоза, передовой
и неуживчивый с начальством. Все ему палки
в колеса ставят, а народ его любит. Дочь от него уходит,
а любовница (Мирошниченко) приходит. Колхоз,
но не из передовых (все неурядицы), но хаты уж больно
богатые. У председателя вообще особняк с пианино
и т. п. В фильме у него случается инфаркт прямо на пашне, но он выживает. Секретарь райкома говорит:
«Мы тоже делаем ошибки». Барахло было бы поразительное,
не будь оно рядовым и естественным явлением.
Такая бездарность, увы, сплошь и рядом, поэтому
мне было просто скучно. Гамлету страшно понравилось,
поскольку все очень правильно с точки зрения
политики партии (это действительно так). Он попросил
меня объяснить ему, почему это барахло. Я это сделал,
но он сказал: «Ты жизни не знаешь».
Так мы погуляли. <…>
Ну все. Привет дедушке. До встречи!
Л. Попов
P. S. В газетах за сентябрь много всего («Правда»,
«Известия» и пр.). Статьи о Лаврове, Лебедеве,
Бичевской, еще другое важное — как получите, посмотрите
внимательно.
С. ДОБРОТВОРСКИЙ — Л. ПОПОВУ
26–29.09.1985
Здравствуйте, служивый, кругом я перед Вами
в долгу. Не первый день собираюсь написать, да всякая
карусель отвлекает, дни идут, приближая Вас к дембелю,
а меня к старости, писем не пишу, и происходит
в результате «расстройство совести»…
Публика вспоминает Вас часто и сентиментально.
Заметьте — это не дежурный сантимент, отпускаемый
по адресу тех, «кому хуже». Всячески пытаюсь нашим
коллегам внушить, что Вам сейчас лучше и интеллектуально
свободнее, чем нам. В общем, все это хорошо,
и если, как вычитал я в очередной театральной
брошюре, «студия должна быть семьей», то наша семья
большая и скандальная. Володькин кроваво поцапался
с Аллочкой и мешает мне жить — его, видите ли,
не устраивает
выбор драматурга. Да, Вы же не знаете!
Я оставил короля замерзать в одиночестве и переключился
на дивную пьесу Л. Жуховицкого «Последняя
женщина сеньора Хуана». Это очередная версия Дон
Жуана, неглубокая, но изящная и на диво сценическая.
Чем-то напоминает стиль Горина в захаровских телефильмах.
Так Володькин считает теперь своим долгом
портить мне кровь и сжимать горло разговорами о чистоте
нашей афиши, о высоком звании студийного театра
и о преступлении против какой-то мифической эстетической
программы. И все из-за того, что автор этого
Дон Жуана не Кальдерон, а Жуховицкий. Пьеска же,
ей-богу, хороша. В ней при всех огрехах есть флюиды
живого театра, а не умных филологических концепций,
какими мы питаемся и объедаемся.
Предстоят по этому поводу большие бои с возвышенной
группировкой нашего коллектива. Выступаю
апологетом дурного вкуса и комсомольского задора, да что уж поделаешь! <…>
Жму руку.
Добротворский
М. ТРОФИМЕНКОВ — Л. ПОПОВУ
29.09.1985
Лёня!
<…> Итак, с чего начать? Думаю, что с театра, благо,
его работа возобновилась и потихоньку вошла — тьфу,
тьфу, тьфу — в нормальное русло. Где мы существовали — там и будем существовать. <…> Д-ий объявил набор
новых. Главный расчет делался, конечно, на знакомых,
но Д-ий велел мне и Наташе повесить объявление
о том, что «Театр на подоконнике» приглашает желающих
на прослушивание, на историческом, биологическом
и филологическом факультетах, — а вдруг некто,
мечтающий с детства о театре, увидит это объявление
и прибежит, а мы откроем в этом «некто» гениального
актера. Как это ни смешно, но мечтающие с детства обнаружились
в большом количестве и прибежали толпой
с филфака. По их уверениям, они нашли объявление
лежащим возле мусорного ящика. Д-ий создал
приемную комиссию из себя, Володькина (надевшего
в честь такого случая темно-синюю тройку) и матушки
Насти Долининой. Обещал быть безжалостным, но дело кончилось тем, что все претенденты ходят теперь
на репетиции, а Д-ий, кажется, в глубине души уже подумывает,
как бы избавиться кое от кого из них. Меня
единодушно обозвали пижоном за то, что я пришел на приемное занятие в ватнике и кирзовых сапогах. <…>
Ну, посмотрим. Много народу восстановилось
в Университете. Вася — на историческом, Настя Долинина
и Птица — на биологическом, Катя Добротворская — на географическом. Марина на практике
в школе. Именует учеников исключительно господами.
На первом же занятии она объявила, что положение
учительницы ее очень унижает, на что школьники
ответили аплодисментами. <…>
Было у меня сильное впечатление — я ходил на концерт
«Аквариума» во Дворце Молодежи. Первый раз
был в жизни на рок-концерте. Билетов не было, и перед
Дворцом стояло в поисках лишнего билетика несколько
сот человек. Автобусы подходили набитые. Как бочки
с сельдями, и выплескивали все свое содержимое
у Дворца. Там были самые фантастические лица, костюмы,
значки. И, как ни странно, среди этого столпотворения
и я, и Володькин спокойно купили лишние
билеты. Концерт начался, наверное, минут на 40 позже,
потому что безбилетные рвались по узкой лестнице
наверх. Они сминали охрану, охрана скидывала их
обратно. В общем, наконец все более или менее успокоилось,
и начался концерт. В первом отделении выступала
какая-то стандартная советская группа — очень
много грохота, электричество, выпендриваются, стараются
перекричать собственную музыку. И «Аквариум»
очень выгодно контрастирует с ними. Играли без всякого
электричества на скрипке, виолончели, флейте,
гитарах. Самые благоприятные впечатления.
Я не склонен поддаваться массовому психозу и очень
отстраненно отношусь к его проявлениям, но и я на этом концерте топал ногами, хлопал в ладоши и скандировал
«Рок-н-ролл-рок-н-ролл». Такие вот дела.
Пока все.
М.
Л. ПОПОВ — М. ЭПШТЕЙНУ
14.10.1985
Привет, Мишка!
Извини, что долго не писал — времени в последние
недели стало не хватать катастрофически. То есть абсолютно
ни на что — ни на письма ответить, ни на газеты
просмотреть, ни на зубы почистить. <…> За три месяца
учебки мы столько не ездили на автодроме, сколько
за одну неделю. Аврал на уровне, так что очень скоро
вся эта нервотрепка стала нам поперек горла. <…>
Инструктора — лица, материально ответственные за машину, поэтому на упражнениях они заставляли нас
щадить ее, а у тех, кто не мог выполнить этого требования,
не щадили ни скул, ни ребер. Поэтому расцвел
массовый шлангизм. Всеми возможными способами
мы стали увиливать от вождения. И легально (переодеваясь
регулировщиком и валяя официально дурака
на упражнении) и нелегально (уходя подальше в леса).
Лично я, посланный с утра наломать веник, вернулся
с ним к обеду, а неделю спустя лег среди белого
дня дремать за холмиком в 20 метрах от эстакады.
Бушлат цвета грязной земли надежно замаскировал
меня, а когда стемнело (дело было в послеобеденную
смену) я незаметно присоединился к собирающемуся
обратно в часть взводу.
Помимо вождения, на нашу голову зачастили в последнее
время всевозможные проверяющие и официальные
гости. Самых разных калибров: от полковника-комдива до короля Иордании (заходило к нам и такое
лицо, очень черное лицо). <…> Устраивались показательные
смотры, а стало быть, по ночам мы подгоняли
себе шинели, утюжили их (1 утюг на роту), латали
сапоги и т. п. и т. п.
Дальше — больше.
<…> Начались экзамены. <…> Сдавали мы полит.
подготовку, ТСП (тактико-специальная, это все
что угодно: медицинская, инженерная, химическая),
строевая, уставы, физическая. Осталось устройство
и вождение. Подготовки минимум. В ночь перед экзаменом
рассказывают кое-что, а больше натаскивают на то, как выглядеть там. Можно мало знать, но говорить
уверенно (нагло), без запинок, громко и т. д. Наши индивидуальные
оценки нас не волнуют. Они роли не играют
и действительности не соответствуют. Взвод сдает
неплохо, больше половины — «отлично» (по взводу),
значит, удачно ведутся переговоры с проверяющими,
взвод выводит роту вперед. Из-за этого на нас меньше
рычат.
Что будет дальше — неизвестно. Если спокойно,
без тревог доживем до конца экзаменов, нам присвоят
звание и числа с 18-го начнут отправлять. Терпеть
осталось недолго. Тем более что гнет все легче и легче,
слабее и слабее, жизнь все проще и проще. Ходят
слухи, что большинство мест распределения по
Ленинградской области, есть и сам Питер, и Крайний
Север. Мы напеваем: «Ты узнаешь, что напрасно называют
север крайним, ты увидишь — он бескрайний,
я тебе его дарю…»
Родители наезжают каждый выходной и кормят до отвала. <…>
Привет. До встречи.
Бомжир
ПРИМЕЧАНИЯ
Комментарии к переписке Леонида Попова могли бы
стать энциклопедией культурной жизни второй половины
1980-х годов. Она пока не написана. Но нам думается, это
не препятствие для публикации «Романа в письмах». Когда
полный его вариант появится на интернет-сайте, возможны
будут вопросы и ответы в режиме свободного общения.
О том, кто такой В. П. Володькин, быть может, расскажет
тогда известный кинокритик Михаил Трофименков, один
из близких Лёниных друзей и главных героев его переписки.
Для нас же важно, что Виктор Петрович Володькин возникает
на страницах «Романа…» колоритным представителем
петербургского (то есть — ленинградского) «культурного
слоя» тех лет. Целый ряд имен Лёниных друзей по сообществу
археологов и Группе Спасения, которые часто
встречаются на страницах переписки, нам помогли прокомментировать
(см. публикации в № 50 и 51 «ПТЖ»)
Сергей Васильев и Тамара Жеглова, за что им — спасибо.
Упомянутые в нынешней публикации Мишель (Михаил
Каган) и Матусевич (Максим Матусевич, он и один из
трех Максов в письме М. Трофименкова) — того же круга,
оба были знакомы с Леней по археологическому кружку
с 1982—1983 гг. М. Каган окончил истфак ЛГУ, М. Матусевич
учился на истфаке пединститута им. Герцена, затем уехал
в США; в 1990-е — начале 2000-х Каган занимался политическим
пиаром, Матусевич, ставший специалистом по языку
суахили, работал в Оклахомском университете, чем они
занимаются сейчас — нам неизвестно. Упомянутые в одном
из писем Лёни Г. Романова и П. Романов — театроведы.
Павел Викторович Романов (1949–2005) более двух десятилетий
работал на кафедре русского театра ЛГИТМиКа (затем — СПбГАТИ), в 1980-е годы был деканом театроведческого
факультета, с 1992-го — проректором по учебной работе.
Эпизодически возникают и другие имена, о которых
выяснить что-то пока не удалось.
В предисловии к публикации «Романа…» уже говорилось
о тех человеческих и культурных сообществах, в которые
входил — рос, общался, формировался в них — петербургский
театральный критик Леонид Попов. Среди
них был и Театр «На подоконнике» под руководством
С. H. Добротворского, о нем уже возникала речь в переписке
Л. Попова и М. Эпштейна (см. № 51 «ПТЖ»). В письме
М. Эпштейну 17.03.86, не вошедшем в «Роман…», Лёня писал:
«К вопросу об истории театра-студии Добротворского.
Первый свой театр он получил лет 5 назад, у нас на театроведческом
факультете, когда в институт пришли люди из ЛГУ
и сказали: хотим режиссера для нас! Им дали Добротворского,
который, очевидно, заявлял уже о своем таком желании.
Так он попал в ЛГУ, где с биофаковцами и геофаковцами
ставил капустники (и не только). Потом те покинули
ЛГУ, а Добротворский — ЛГИТМиК, поступил в аспирантуру
и ушел в армию. Он вернулся в 1984 году (очевидно,
весной). Осенью этого года он прошёл по старым связям
в ЛГУ, уже имея какие-то разговоры в райкоме ВЛКСМ
Дзержинского района (знакомые люди плюс институт на Моховой). В ЛГУ он встретил Марину Бусыгину, которой,
как и другим, дал задание — искать заинтересованных в студии
людей. Марина нашла меня (мы были малознакомы через Васю, Китайца и К°). Я нашел Трофименкова, а потом еще
и не только его. (Матусевича, пару дам из института). Мы
оказались вторым поколением (первое — старая гвардия из
ЛГУ, ныне оставшаяся в лице двух патриархов, не считая третьей — жены С. Н. Добротворского, тоже, впрочем, принимающей
участие в делах студии). Ещё было очень много всяких
людей, что приходили и уходили. Было помещение на ул.
Восстания, где мы тренировались (а сначала была квартира
С. Н. Д-кого на Тихорецком). Но с Восстания нас выжили
в начале 1985 г. Тогда я (я нескромен?) нашёл помещение при ЖЭКе на Моховой, где и сейчас театр.
Там поставили „Ванду Джун“, там (уже с третьим поколением, пришедшим без меня,
осенью 85-го) поставили „Сеньора Хуана“ („Последняя женщина
сеньора Хуана“ Л. Жуховицкого. — Л. В., И. Б.) и сейчас
ставят „Спектакль № 3“ (так он называется) — это нечто, совмещающее
Брехта, Маяковского, Добротворского и по форме
совершенно оригинальное, хулиганистое, но я
в Добротворского верю».
Имя Сергея Николаевича Добротворского, одного из лидеров петербургской кинокритики второй половины
1980-х — 1990-х годов (он ушел из жизни 38-ми лет, в 1997-м),
наверное, не нужно подробно комментировать читателям
«Романа…». Редакция журнала «Сеанс» уже выпустила книгу
его статей «Кино на ощупь». Но масштаб его личностной
и художественной одаренности, кажется, еще не вполне
осознан. Появится когда-нибудь, будем надеяться, книга
воспоминаний о нем друзей, учеников, коллег. Под его влиянием
человечески и творчески взрослели и Леонид Попов,
и Михаил Трофименков, и их ровесники и коллеги по Театру
«На подоконнике», — об этом свидетельствует Лёнина переписка.


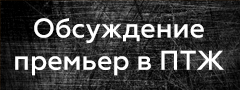
















































комментарии