Наступил последний год моей школьной жизни.
Родители усилили натиск, требуя от меня успехов на
ниве просвещения. Но я не баловал их хорошими отметками, и их это очень огорчало. Необходимость
получить высшее образование висела надо мной
и отравляла жизнь. Я не хотел больше учиться, я был
сыт учебой по горло, но в те годы не иметь высшего образования было неприлично. Нет, деньги тогда не имели решающего значения, во всяком случае, такого, которое имеют сейчас. Престиж, положение в обществе — вот что давали корочки. Чем
солидней институт, тем лучше. В первом ряду самых
уважаемых вузов были технические: кораблестроительный, горный, железнодорожный, оптико-механический, ЛЭТИ. Здесь по окончании гарантированы высокие зарплаты, казенная форма с погонами,
ведомственные больницы и санатории. Сюда же относились и военные училища. Конкурс в них был
огромный: одежда и питание — казенные, ранняя
пенсия. Холодильный институт, хоть и был техническим, считался пожиже, вместе с технологическим и текстильным. Гуманитарные вузы котировались на порядок ниже технических. Педагогические
институты, иностранных языков, филологические,
исторические не пользовались спросом. Максимум,
на что могли рассчитывать их выпускники, — работа учителя в школах с копеечной зарплатой.
— Не попадешь в институт, будешь клозэты чистить! — кричал отец, непонятно почему заменяя
русское слово уборная на иностранное — клозет.
Причем Е он произносил как Э. Я маялся, не зная,
куда же мне податься. Собственно, выбор у меня
был небольшой. Университет отпадал по многим
причинам. Даже если бы я был отличником, «пятый пункт» в анкете закрывал мне двери в этот
храм русской науки. В середине пятидесятых годов
был такой анекдот. У армянского радио спрашивают:
«Что такое чудо-юдо?» Ответ армянского радио:
«Чудо-юдо — это еврейский ребенок, поступивший
в университет».
Так куда же идти? В «хлебные» институты я не выдержу конкурса. В армию — не хочу. Остается педагогический, потому что в медицинском тоже действовал
«пятый пункт». Получалось, что, уйдя из
опостылевшей школы, я снова возвращался в нее — только с другой стороны. А хотелось мне иного.
Я представлял себя водителем большого грузовика, к примеру «студебеккера». В кабине тепло, пахнет смесью бензина, моторного масла и горячего железа. Большой руль, рокочущий двигатель, передающий свою могучую дрожь всей машине, покорной и послушной моей воле. Я сижу в ней один, большой,
слегка усталый, — настоящий мужчина, и бесконечная дорога с полями и перелесками на обочине ложится под колеса моей машины.

А. Равикович.
Фото из архива театра Комедии
Ну, если не шофером, то я бы не возражал стать
адвокатом. На меня сильное впечатление произвела книга «Избранные речи русских адвокатов».
Особенно речь Плевако на процессе Веры Засулич
из «Народной воли». Мне казалось, что я хорошо бы
смотрелся в длинной черной мантии, с неподражаемым красноречием и выразительными жестами громящий аргументы обвинения и вызывающий восхищенные возгласы публики, особенно ее женской половины. Решение, куда поступать, пришло случайно.
— А почему бы тебе ни пойти в театральный институт? — предложила мне Маргарита Федоровна,
руководитель моего драмкружка. — У тебя, безусловно, есть способности, будешь артистом.
Мне эта идея показалась совершенно неожиданной. Я никогда не хотел быть актером. Я ходил в кружок и играл роли, но только потому, что очень ценил
общество ребят и мне было там хорошо и интересно. Ну, играл. С тем же успехом я мог бы ходить на
стадион и заниматься спортом. Но стать профессионалом? А с другой стороны, почему бы и нет, если
мне все равно куда, а родителям так хочется «иметь
у меня» высшее образование.
Был уже апрель, и я поехал в институт на Моховую,
34 узнать, что и как. Начинались консультации, прослушивания желающих поступить в институт. Я стоял у входа и читал разные объявления. Было тепло,
и кучка студентов и таких же, как я, абитуриентов,
уже без зимней одежды, курили и весело переговаривались. Рядом со мной стояли два уже довольно
взрослых человека, думаю, что лет двадцати с лишним, и тоже курили. В руках они держали портфели.
Вдруг один из них обратился ко мне с вопросом:
— Хотите поступать, молодой человек?
— Вообще-то, хочу.
— Позвольте спросить, на какой факультет? — Он
был очень вежлив.
— На актерский.
— Слышите, Владимир Иванович, — он повернулся к своему товарищу, — вот ваш будущий студент.
Так началось мое знакомство с двумя шутниками
и лоботрясами, выпускниками-режиссерами, любителями злых розыгрышей, которое чуть не стоило мне поступления в театральный институт. К несчастью, кто они такие, я узнал намного позже, а тогда сердце мое радостно екнуло, и я уставился на Владимира Ивановича.
— Вы приготовили что-нибудь для консультации? —
Он прищурился и окинул оценивающим взглядом
всю мою фигуру, включая тюбетейку на голове.
Я замялся:
— Как?
— Вы знаете, необходимо приготовить прозу, стихотворение, басню и что-нибудь спеть.
Я ничего этого не знал.
— Вообще-то, я знаю наизусть рассказ Чехова «Лошадиная фамилия», мы его играли в самодеятельности, — обрадовавшись, вспомнил я.
— А! Прекрасно, — сказал Владимир
Иванович, — хотите, я Вас послушаю?
Я был счастлив.
— Ну, тогда прочитайте. — И он приготовился
слушать.
Я был несколько удивлен этим предложением: выступать у дверей, на ступеньках, когда мимо без конца ходят люди. Но, отбросив в сторону все возникшие сомнения, бодро начал: «У отставного генерала…
разболелись зубы…». Я читал громко, очень стараясь понравиться, изображая попеременно то генерала с распухшей щекой, то приказчика, и остался
очень собой доволен. Между тем двери постоянно открывались и закрывались, туда-сюда сновали
люди и удивленно на меня оборачивались. Потом
переводили взгляд на моих экзаменаторов, загадочно ухмылялись и шли дальше. Наконец я закончил
и с надеждой посмотрел на Владимира Ивановича.
— Ну, что же… — задумчиво произнес Владимир
Иванович, глядя куда-то ввысь, — м-м-м, неплохо,
но должен Вам сказать, что у Вас явное расхождение
между Вашими данными и репертуаром.
— В каком смысле, я не очень понимаю?
— А Вы посмотрите на себя. У Вас внешность тюзовского героя: отличника, комсомольца, борца с подсказками, не правда ли, Константин Сергеевич?
— Да-да, — закивал Константин Сергеевич, — настоящий положительный герой.
— А Вы зачем-то губите свои редкие данные, пытаясь быть смешным, — продолжил Владимир Иванович. — Думаю, что с этим рассказом у Вас никаких шансов поступить нет. Надо менять репертуар
на героический.
Дальше я, завороженный таким дружеским участием в своей судьбе, безоглядно следовал всем их советам и, к счастью, пройдя два тура еще на «Лошадиной
фамилии», к третьему уже был во всеоружии. Что из
этого получилось, я обязательно расскажу.
Дома отец по-прежнему пугал меня «клозэтами»,
а когда я сказал, что решил стать артистом, он разбушевался еще больше.
— Идиот, — надрывался отец, — что это за профессия — артист! Это же не мужская профессия!
Когда в Глухов приезжали артисты, это было как холера. Они воровали все подряд! Белье на веревке нельзя было оставить! Хуже цыган! Тебе нравится быть
нищим — так ты будешь.
Мать молчала, но по косвенным признакам было
видно, что она меня одобряет. Через некоторое время отец объявил мне свой вердикт:
— Я выбрал тебе институт. Ты будешь поступать
в институт киноинженеров. Это тебе и кино, и нормальная инженерная специальность.
Бедный папа не знал, что никакого отношения ни
к кино, ни к театру этот институт не имеет. Он готовил специалистов, чтобы делать кинокамеры, пленку, микрофоны, осветительную аппаратуру и прочее.
Я не стал спорить, у меня была припасена маленькая хитрость: в театральный институт можно было
предъявить копию аттестата зрелости. Что я и сделал. А оригинал отнес в институт киноинженеров,
где он и провалялся все лето. Увидев расписку, что
аттестат — в институте киноинженеров, отец успокоился. Но ненадолго.
— Как экзамены? — спрашивал папа.
— Очень хорошо, — врал я, ни разу даже не по явившись в институте. Но однажды, придя вечером домой, я почувствовал: случилось что-то нехорошее.
Отец стоял посередине комнаты и держал в руке какую-то бумагу.
— Мерзавец, — сказал он трагическим голосом, —
вот так ты очень хорошо сдаешь экзамены? — и потряс бумажкой.
Я взял ее и прочел: «Равиковичу А. Ю. В связи
с тем, что Вы не прошли медосмотр, к приемным экзаменам Вы не допускаетесь. Приемная комиссия».
Скандал последовал долгий и тяжелый, после чего
на семейном совете было решено, что делать нечего —
надо пробиваться хотя бы в театральный институт.
И вот, наконец, третий тур. У меня новый репертуар, кристально-героический, и я абсолютно уверен в успехе. Ну, а как же иначе? Меня курировали
мои нежданные дорогие друзья Владимир Иванович
и Константин Сергеевич. С момента нашего знакомства мы еще дважды встречались, и они с готовностью учили меня, как нужно правильно читать и как
лучше держаться перед комиссией. Более того, они
посоветовали мне, чтобы уж совсем покорить экзаменаторов, прибить к ботинкам что-нибудь вроде
платформы, чтобы стать выше и выглядеть настоящим тюзовским героем.
В аудиторию № 5 впускали по пять человек. Я вошел в большой светлый зал и увидел за длинным столом, покрытым зеленым сукном, созвездие знаменитых ленинградских артистов. Боже ты мой! Вон сидит Райкин, рядом с ним — Меркурьев, Толубеев,
Симонов. Еще какие-то знакомые, но неопознанные
лица. Все улыбаются. Из окна льется солнечный свет,
отражаясь на красивом натертом паркете.

А. Равикович (Сганарель). «Каменный властелин».
Фото из архива А. Равиковича
— Пожалуйста, присаживайтесь на стулья у стенки.
Первой у нас будет, — председательствующий
посмотрел в бумажку, — Тараканова Елена. Пожалуйста, — он снова улыбнулся и сделал жест рукой,
приглашающий на середину зала.
Тараканова, высокая, довольно дородная девушка со светлыми волосами, заплетенными в тяжелую
косу, встала со стула и вышла на середину.
— Что Вы нам приготовили? — спросил председатель.
— Я прочту отрывок из романа Льва Николаевича
Толстого «Воскресенье», — сказала Тараканова голосом ведущей филармонического концерта.
Она закрыла глаза и постояла минуту, готовясь
к выступлению. И вдруг тишину разорвал истошный вопль. Я испугался и не сразу понял, что этот
вопль издает Тараканова. За столом тоже все вздрогнули и с испугом на нее посмотрели. Лицо ее было
искажено какой-то жуткой гримасой. Слезы ручьем
потекли из глаз. Они падали на ее высокую грудь,
обтянутую платьем из плотной тафты, и, не впитываясь, как с карниза, стекали вниз с шумом небольшого водопада.
— Катюша Маслова, — рыдала Тараканова, заходясь от горя,
— увидела Нехлюдова… — дальше ничего понять было невозможно из-за всхлипов, стонов и рыданий. Я сидел, вжав голову в плечи. Мне
было страшно неловко. Эти слезы не вызывали никакого сочувствия, наоборот, было стыдно и омерзительно смотреть на этот припадок. У меня было
чувство, как будто бы я невольно подсмотрел в замочную скважину что-то очень непристойное. Я тогда еще смутно понял, что настоящие слезы в жизни
и настоящие слезы на сцене — это совершенно разные вещи. Уже потом, спустя много времени, я пришел к мысли, что искусство, каким бы оно ни было
правдивым, — всегда всего лишь игра. Иногда требующая напряжения всех твоих душевных сил, но
все равно — игра, все равно — радость. Это я понял
потом, а тогда только смутно ощутил, глядя на безутешную Тараканову с ее рыданиями и слезами, которыми она, наверное, очень гордилась.
Я выступал предпоследним. Аккуратно, почти не
поднимая ног, я заскользил к центру зала. У меня
к ботинкам были прибиты отцом толстенные подошвы из двух слоев китовой кожи, увеличивавшие
мой рост сантиметра на три (вклад папы в мое высшее образование). Они были очень тяжелые, скользкие и почти не гнулись. Было ощущение, что на ногах у меня небольшие лыжи. Выдвинувшись на середину, я объявил: «Тарас Бульба! Отрывок», затем,
сделав рукой красивое движение, как будто я открывал дверь, я застыл в этой позе с откинутой в сторону левой рукой и начал:
— Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский
полк — краса всех конных полков.
Правой рукой я сделал козырек над глазами, будто
от солнца, и, глядя в глаза сидящих передо мной членов комиссии и гостей, начал разыскивать от имени Тараса Бульбы своего сына Андрея, летящего во
главе польских гусар на горячем коне. Этому приему научили меня Владимир Иванович и Константин Сергеевич. Они же научили меня говорить таким же голосом, каким дама в филармонии сообщает слушателям: «Бах! Опус четвертый ля минор.
Исполняет…» — громко, с некоторым надрывом, нараспев и четко выговаривая каждую букву. Дойти до
слов Тараса Бульбы «Я тебя породил, я тебя и убью»
мне не дали.
— Спасибо, достаточно, — сказал председатель комиссии. — Какое стихотворение вы нам прочтете?
Я снова сделал тот же красивый жест рукой и начал: «В сто сорок солнц закат пылал, в июль катилось лето. Была жара, жара плыла, на даче было это».
У меня осталась некоторая досада оттого, что мне
не дали дочитать «Тараса Бульбу», и стихотворение Маяковского я читал с еще большим надрывом,
стремясь полностью покорить публику силой своего искусства. На этот раз меня прервали еще раньше. У меня забрезжило ощущение, что им не нравится, как я читаю. Я отогнал от себя это сомнение и на
вопрос, какая у меня басня, гордо ответил: «Волк на
псарне». Это была самая героическая басня из всех написанных Крыловым, и я читал ее очень хорошо, попеременно изображая то Кутузова, то волка, то псарей. Это была козырная карта в моем героическом
репертуаре. И снова, «открыв дверь» рукой и сделав
страшное лицо, я произнес: «Волк ночью…».
— Большое спасибо. Можете сесть.

А. Равикович (Налево). «Двадцать лет спустя».
Фото из архива СПГАТИ
Я стоял и ничего не понимал. То есть я понимал,
что провалился, что меня даже не дослушали, но
почему? Я ведь так хорошо читал! И если я сейчас
не придумаю что-нибудь, чтобы понравиться всем
этим людям, то все. Конец.
— Я еще не пел! — попробовал я уцепиться за последнюю возможность остаться и что-то изменить
в своей судьбе.
Председатель с улыбкой повернулся к соседям,
и те, тоже улыбнувшись в ответ, закивали головами,
а Райкин сказал: «Ну, что ж, пусть поет».
Песня у меня тоже была героическая «По долинам и по взгорьям». Концертмейстер, милая пожилая женщина, села к пианино, сыграла короткое
вступление и, сильно мотнув головой, дала мне
знать, что я могу начинать петь. Она даже вместе
со мной открывала рот и беззвучно пела известные
слова, желая помочь мне не сбиться с ритма. С ритма я не сбился, но начал петь в другой тональности. Выше, чем надо. Я увидел, как сидящие за столом
враз слегка пригнулись и сморщились, как от кислого. Пианистка, ее звали Тамара Фирсовна, наоборот, сделала глаза большие и страшные. Я понял, что
я делаю что-то не так. Тут Тамара Фирсовна, желая
выручить меня, подхватила мою тональность, и на
пару тактов мы совпали. Но, вспомнив страшное
лицо Тамары Фирсовны и услышав изменения в музыке, я решил, что, видимо, надо петь повыше, что
и сделал. Тамара Фирсовна не сдавалась: она снова
скорректировала тональность. Но и я был не промах.
Каждый раз, когда я чувствовал изменения, я воспринимал это как сигнал петь еще выше. Куплетов
в этой песне очень много. Фактически это подробное
описание победы Советской власти в Сибири и Приморье. И, когда наше с Тамарой Фирсовной соревнование «кто выше» заканчивалось, я уже не пел, а, поволчьи задрав голову, чтобы легче было брать высокие ноты, истошно выл: «И останутся, как в сказке,
как манящие огни, штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни».
Вымотанный этой сумасшедшей гонкой за Тамарой Фирсовной, мокрый от напряжения, я, наконец,
опустил глаза и увидел довольно
странную картину: часть публики, скрючившись в разнообразных позах, задыхалась и стонала от смеха. Женщины, одной рукой вытирая размазанную от слез тушь, другой — слабо махали на меня, видимо желая, чтобы
я или замолчал, или исчез. Тамара Фирсовна вытирала лицо рукой и тяжело дышала. Это был позор. Это
был конец не только моему высшему образованию,
это был конец моему уважению к себе как к человеку. В ботинках на платформе, на негнущихся ногах
я покинул это проклятое место. Домой идти я не мог.
Всю ночь просидел на Фонтанке, на спуске набережной к реке без мыслей и без чувств. Стояли белые
ночи, и за моей спиной ходили и смеялись счастливые люди, не знающие, что такое позор и отчаяние.
Под утро я вернулся домой и тихонько, никого не
разбудив, лег спать. В десять часов раздался телефонный звонок. Никто не брал трубку, и я, чертыхаясь, побрел к телефону.
— Толя, Толя, — услышал я взволнованный голос
Олега Мищука (мы с ним познакомились на приемных экзаменах), — где ты, гад? Нас приняли! Только
что вывесили списки! Алло! Алло! Ты меня слышишь?
— Да, — выдавил я, не веря ни единому слову.
— Приезжай сейчас же! Ты что — спишь?
В вестибюле института народ толпился у доски
объявлений. Я подошел и прочел: «Список принятых
на первый курс актерского факультета. Класс проф.
К. П. Хохлова». Дальше следовал список из 24 фамилий, напечатанных на машинке. В самом конце списка была еще одна фамилия, 25-я. Она была написана
от руки — Равикович. Это была моя фамилия.
Первого сентября 1954 года мы сидели на стульях (мы — это 25 свежих студентов Театрального
института), образовав полукруг, и ждали мастера.
Мастером называли руководителя курса. Мы его
еще толком не видели. Он руководил киевским театром имени Леси Украинки и до последнего момента
сидел в Киеве, сдавал дела. Приехал только на третий тур, и мы его видели лишь за столом приемной
комиссии, да и то мельком. Мы знали, что его назначили главным режиссером БДТ, что он знаменитый в прошлом артист немого кино и что зовут его
Константин Павлович Хохлов.
И вот отворилась дверь, и в аудиторию в сопровождении декана факультета вошел наш мастер.
Сразу было видно, что он из кино. Причем немого. Где элегантные мужчины во фраках и красивые
томные женщины, не останавливаясь, пьют шампанское, страдают от любви и стреляются из пистолетов.
Наш мастер был высоким, статным мужчиной лет
под 60, с белоснежной гривой седых волос, гладко зачесанных назад, с крупными, правильными чертами
лица и смоляной черноты бровями, придававшими
его лицу несколько суровое выражение. Говорили,
что он был частым партнером Веры Холодной, знаменитой артистки немого кино, и даже сейчас, спустя много лет, в это можно было поверить. Одет он
был в темно-синий костюм с жилетом, светлую сорочку с алой бабочкой и с такого же цвета платком
в кармашке. Конечно же, он был человеком из другого мира. Я посмотрел на своих однокашников в мятых спортивных брюках с резинкой внизу, поношенных туфлях, ботинках, а то и тапочках, и мне стало неловко. Хотя чего там неловко — вся страна так
одевалась.

«Двадцать лет спустя». Сцена из спектакля. Третий справа А. Равикович (Налево).
Фото из архива СПГАТИ
Мы встали, потом по его знаку сели, а он, сев на
приготовленный ему стул в центре полукруга, поздравил нас и стал рассказывать о своих впечатлениях по прошедшему экзамену, и каждому говорил,
что ему понравилось в нем, а что нет. Когда очередь
дошла до меня, К. П. сказал: «Буду с Вами откровенен: Вы показались очень плохо. Ну, право же, посмотрите на себя. Ну, что у Вас общего с Тарасом Бульбой? И что вообще в Ваши годы Вы можете знать об
отцовских чувствах, о муках, которые испытывал
этот человек, видя предательство сына, и что значило для него решиться на убийство. Я не знаю никого из ныне живущих актеров, ну, пожалуй, за исключением Симонова, кому было бы под силу сыграть трагедию Тараса Бульбы. Повторюсь, я не хотел Вас
брать, но в самый последний момент, вспомнив, как
Вы пели (тут К. П. улыбнулся), я решил все-таки дать
Вам шанс. Вы выглядели таким замечательным… (он
остановился, подбирая слово) обаятельным идиотом,
что заразили всех. Это хорошее качество для артиста. Но помните: я Вас взял условно, доказывайте свое
право быть артистом.
Впрочем — он оглядел всех — это относится к каждому из вас».
Ох, и долго же мне пришлось ждать того часа, когда
я смог сказать себе вполне уверенно, что имею право называть себя артистом. Это случилось не в институте и даже не в первом моем профессиональном театре, а много позже — уже когда я работал в театре
им. Ленсовета с Владимировым и Фрейндлих.
Четыре институтских года. Что они дали мне? Не
так уж и много. Очень сильно развили меня в музыкальном и движенческом направлении, я получил,
может быть, не очень глубокие, но системные знания
по русской и иностранной литературе, философии,
истории, изобразительному искусству и даже политэкономии. Но главному, чему, наверное, и должен
был научить институт, — психотехнике или, если
хотите, системе Станиславского — он меня не выучил. И еще: я по-прежнему не знал, кто я как артист.
Какие у меня сильные стороны, а какие слабые. Кого
я должен играть — Гамлета или Полония, а может,
могильщика. Ответы на эти вопросы мне суждено
было еще получить. Помочь познать себя, пусть не
до конца — вот, на мой взгляд, главная задача театральной школы, а не сценречь или сцендвижение — выдуманные дисциплины.
Танец у нас вела Зинаида Семеновна Стасова, бывшая балерина, уже в летах, но не утратившая женского шарма. Она, наверное, была бы хорошим педагогом для балетного училища, но для нас, будущих артистов драматических театров, криворуких
и колченогих, — слишком хороша. Ей нравились высокие, статные ребята с длинными ногами, ими она
и занималась. Мы же, т. е. всякие комики, травести,
характерные, чересчур толстые или не в меру длинные, были у нее в загоне. Еще когда мы танцевали какую-нибудь польку или деревенскую кадриль, она
с нами мирилась. Но когда речь шла о благородных
танцах — паване, мазурке или испанском, — она не
могла вынести нашего убожества и брезгливо отворачивалась. Мы оскорбляли ее утонченный вкус.
Я это хорошо чувствовал и танцевал еще хуже, чем
мог. Особенные мучения вызывал у меня испанский
танец. Когда Юра Алексеев, наш лучший танцор, на
чуть согнутых ногах, уперев руки в талию, с красиво откинутой назад головой, длинными шагами выходил на середину зала, вставал в позу и приглашал
даму, я думал: «Ну, ладно, он будет играть Дон Жуана,
ему нужно уметь быть красивым, чтобы произвести
впечатление на очередную жертву, а мне, зачем это
мне? В лучшем случае я буду его слугой Сганарелем
или Лепорелло, мне бы научиться чему-нибудь попроще». Тем более что, когда я сгибал ноги в коленях и мелкими шагами семенил к центру, возникало ощущение, что я не успеваю добежать до туалета.
Но Зинаида Семеновна не учила нас танцу Сганареля
и требовала повторить, как Юра Алексеев, а потом
злилась, что у меня так не получается.

«Двадцать лет спустя». Сцена из спектакля. Третий справа А. Равикович (Налево).
Фото из архива СПГАТИ
Фехтование и сцендвижение вел Иван Эдмундович Кох, человек легендарный. Он был уже стар — за
семьдесят, с совершенно лысой, маленькой головой,
тонкими губами и отсутствующим подбородком.
Он был похож на черепаху. Когда-то, чуть ли не при
царе, он был чемпионом Петербурга по фехтованию
на шпагах, вел светский образ жизни и теперь консультировал всех желающих по вопросам этикета
и вообще обо всем, что было до революции. Больше
всего он любил поговорить о прошлой жизни, о женщинах и с удовольствием поддавался на наши провокации что-нибудь рассказать вместо занятий.
— Иван Эдмундович, а устриц ели? — спрашивал
кто-нибудь, кому надоело махать шпагой.
— Ел, — охотно откликался И. Э.
— И на что это похоже?
И. Э. садился на стул и, не торопясь, объяснял:
— Это похоже… ну, представьте, в морозный день
вы выходите на крыльцо, дышите носом, а потом все,
что у вас там образовалось, проглатываете. Вот это
и есть устрицы.
— А артишоки вы ели?
— Ел и артишоки. Это такие овощи, вкусом напоминающие грязные пальцы, если их пососать.
— Иван Эдмундович, а как правильно по этикету: если у меня осталось немного супа, а я хочу его
доесть. Куда лучше наклонить тарелку, к себе или
от себя?
— Это зависит от того, кого вы хотите облить. Если
человека напротив — наклоняйте от себя. А если
свои штаны — тогда к себе. Никуда наклонять не
надо, попросите, чтоб налили еще.
Иван Эдмундович гордился тем, что сцендвижение как дисциплину он придумал сам. До него в школе преподавали только фехтование. Мы учились под
музыку ходить походкой чиновника девятнадцатого века. По Коху получалось, что все чиновники ходили одинаково.
Сольное пение вела тоже бывшая оперная певица Ольга Ивановна Комарова. Она, как и Зинаида
Семеновна Стасова, не понимала, что никто из нас не
собирается петь в опере, упорно ставила всем оперный голос и сетовала, что ничего из этого не получается. Мне она объявила:
— У вас на курсе одни баритоны. Мы не сможем
спеть ни одного ансамбля. Мне нужны тенор и бас.
До баса Вы не дотягиваете, а вот тенором Вам придется стать: больше некому.
И я был назначен тенором. Полкурса приходило к
аудитории, где я занимался пением с Ольгой Ивановной, и, стоя в коридоре у дверей, страшно веселилось.
О. И. выбрала мне романсы, которые я не мог петь
при всем желании. Например, «К розе» Спендиарова.
Это такое сладкое, на восточный манер объяснение
в любви, заканчивающееся высоченной нотой: «Молю, позволь тебя с куста, дивная роза, сорвать. Чтобы любимой девы грудь пышно украсить тобой!»
Иногда мне удавалось взять эту ноту ля второй октавы, но ценой дикого крика.
— Нет, — требовала Ольга Ивановна, — Вы орете,
а Вы должны нежно просить.
И Ольга Ивановна сцепляла перед собой пальцы
рук и показывала, как я должен просить: рот у нее делался круглым, нижняя челюсть при этом частично
втягивалась, она жеманно склоняла голову, а лицо
приобретало сладко-плаксивое выражение. Потом
она протягивала ко мне руки, как бы умоляя, и одновременно с этим в животе у нее рождался и нарастал
глухой звук, который пытался вырваться наружу, но,
обессиленный, затихал. Я пробовал просить, тогда
нота не получалась, и я повторял свой крик. И все начиналось сначала. Я умолял ее перевести меня в баритоны, но тщетно.
Зато преподавание русской литературы и театра,
зарубежной литературы и театра были замечательны.
Два моих любимых профессора читали лекции по
этим предметам — Успенский и Смирнов. Всеволод
Васильевич Успенский был братом известного филолога Льва Успенского, чья книга «Слово о словах»
была в то время бестселлером. Глядя на него, можно
было подумать, что на самом деле он играет роль рассеянного ученого, причем так, как это делают плохие
артисты: с полным набором штампов и страшно наигрывая. Растрепанный, в мятом костюме с коротковатыми брюками, сутулый, с наклоненной по-птичьи головой в перекошенных на
переносице очках — ну, в общем, полный набор. Спускаясь по широкой
мраморной лестнице к туалету, он по рассеянности
начинал расстегивать ширинку в самом начале этой
лестницы, где стоял бюст Ленина. Увидев бюст, он пугался, спохватывался, что-то бормотал, извиняясь, и, закрывшись портфелем, торопливо сбегал
вниз в туалет. Но как он любил русскую словесность! И как хотел
передать эту любовь нам, тупым и не любопытным. Когда вышла повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», он принес ее в институт и вместо лекции читал нам ее, захлебываясь
от волнения.

А. Равикович (Налево). «Двадцать лет спустя».
Фото из архива СПГАТИ
Борис Александрович Смирнов был антиподом
Успенского. Во-первых, он безукоризненно одевался. Во-вторых, был очень сдержан и читал лекции
по зарубежной литературе и театру безучастным
голосом, чуть нараспев, глядя мимо нас поверх голов, каким-то воображаемым студентам, умным
и любознательным, потому что Б. А. почти не скрывал иронического отношения к будущим артистам
и отбывал с нами постылую обязанность. На экзаменах он никогда не слушал ответов, а просил зачетку и ставил четыре. Причем всем. А четыре ставил
потому, что, имея тройку, вы не получали стипендии. Но какими красочными, живыми, выпуклыми были его рассказы о давно минувших временах,
сколько удивительных подробностей в них было.
Как будто Б. А. видел все это собственными глазами
и не далее чем вчера оттуда вернулся. Довольно часто я ловил его в коридоре и приставал с вопросами.
Однажды я сунулся к нему с восторгами по поводу
«Оптимистической трагедии» в театре им. Пушкина,
поставленной Товстоноговым.
— Но ведь все это заимствовано у Таирова, — сказал Б. А., — и косой пандус сцены, и «матросский вальс» — все из того спектакля, где Коонен играла
Комиссара.
Я не знал, кто такой Таиров, мы его еще не проходили.
— Так вы считаете, что сам Товстоногов не талантливый режиссер?
— Почему же, у него есть чутье на чужие талантливые идеи, а
это тоже талант, — сказал Б. А. и пошел дальше.
Вообще в то время в институте было много ярких, выдающихся личностей. Великим педагогом
был Борис Вульфович Зон. Это был человек с драматической судьбой. Основатель и руководитель
театра «Новый ТЮЗ», страстный последователь Станиславского, он был снят с работы, чудом избежал
лагерей и долго не мог найти пристанища. Наконец,
к счастью, его взяли в институт, и он воспитал целую когорту замечательных актеров: Зинаида Шарко,
Игорь Владимиров, Эммануил Виторган, Наталья Тенякова, Алиса Фрейндлих и много, много других, не
таких, может быть, знаменитых, но владеющих всеми навыками профессии. Существовало даже такое
понятие — «зоновская школа». Это было как знак
качества.
Б. В. был застенчив и деликатен. Близорук. И, проходя мимо, всегда с улыбкой раскланивался с любым,
кто встретился ему на пути, и с незнакомыми людьми в том числе. Он страдал гемофилией (несвертываемостью крови) и поэтому был очень осторожен,
чтобы, не дай бог, не пораниться. Жил он одиноко,
посвящая себя только творчеству — иначе его работу не назовешь. При том, что он был уже вполне пожилым человеком, было видно, что он все еще проявляет интерес к хорошеньким женщинам и очень
смешно с ними кокетничает. Разговаривая с кем-нибудь из дам, он склонял элегантно туловище в легких
поклонах то в одну, то в другую сторону, перетаптывался ногами и теребил галстук-бабочку.
Колоритнейшей фигурой был и Леонид Федорович Макарьев. Внешне он напоминал Вольтера со
всегда язвительной улыбкой на тонких губах. Говорил он, акцентируя каждую букву, скрипучим голосом, прекрасно одевался, имел безупречные манеры,
правда, несколько театральные, и слыл очень светским человеком. Знал языки и раньше много ездил
по Европе. Я застал его уже на склоне лет, и ребята
с его курса жаловались, что он редко у них бывает,
а когда бывает, то больше рассказывает о своих путешествиях и знакомых, чем занимается с ними актерским мастерством. Иногда он поражал всех точностью и глубиной формулировок. Например, разбирая как-то наш дипломный
спектакль, он сказал: «Искусство актера — это искусство молчания». Это
замечательные слова, и я запомнил их на всю жизнь.
С Б. В. Зоном у него было соперничество за лидерство
в институте, но никогда ни тот, ни другой не позволили себе проявить это внешне. Так случилось, что
зоновский курс был на год нас старше, а макарьевский — на год младше. Конечно, это было невезенье. Наш Константин Павлович был старым, усталым человеком. К тому же он приходил к нам после
репетиций у себя в БДТ и не сразу включался в нашу
курсовую жизнь. Иногда, сидя за столом, он засыпал и даже похрапывал. Спустя полтора года он заболел и умер, и никто не хотел нас брать. Временно
с нами работали разные случайные люди, но все это
было без взаимной любви, а без любви невозможно
работать в театре, а тем более в театральной школе,
где для тебя твой мастер — как отец, а однокашники — как братья и сестры. Но все равно я вспоминаю институт с большой теплотой. Молодость, надежда, дружба, любовь — все это было, и все вместилось в эти четыре года.
Но вернусь к началу. А сначала на занятиях по
актерскому мастерству мы делали этюды, маленькие сценки, где взаимодействуешь с воображаемыми предметами. Например, ставишь воображаемый
чайник на воображаемую плиту, зажигаешь воображаемой спичкой газ, повернув воображаемый вентиль, и дальше повторяешь все действия,
как в жизни, — наливаешь кипяток, заварку, кладешь сахар и,
наконец, взяв в руки стакан, пьешь. Эти упражнения
делаются для развития внимания, мышечной и эмоциональной памяти. Я решительно не понимал, зачем
нужно заниматься всей этой ерундой. Вкусивший
славы в спектаклях драмкружка, имевший в репертуаре ряд ролей в спектаклях Островского и Чехова,
я был даже оскорблен, что вместо настоящих репетиций мне предлагают какие-то упражнения. Пару недель я отказывался их делать из принципа, но, когда
выяснилось, что по ним будет зачет, сдался.

«Женитьба». Сцена из учебного спектакля. Вторая
слева А. Завьялова.
Фото из архива СПГАТИ
Между тем многие приносили и показывали свои
этюды: пришивали воображаемые пуговицы, вдевая
в воображаемую иголку воображаемую нитку, кололи дрова, доили коров, ввинчивали лампочки и т. д.
Один парень, Абросимов, делал этюд, который он
назвал «часовщик». Он сел за стол, затем достал из
воображаемой коробочки воображаемую линзу, как
бы вставил ее в глаз, сильно прищурился, взял в руки часы, послушал их, покачал головой, потом резко склонился почти к самому столу и стал что-то ковырять как бы в часах. Что он там ковырял, было совершенно не видно, потому что голова Абросимова
заслоняла его руки. Так продолжалось минут десять.
Иногда он что-то брал из коробочки и снова утыкался себе под нос. Спустя еще минут пять он выпря мился, вынул из глаза линзу и сказал: «Готово». Кон стантин Павлович был ошеломлен.
— Абросимов, Вы их правда починили? — спросил он.
— Конечно, — гордо сказал тот.
Этот этюд стал любимым этюдом К. П., он часто просил Абросимова показать ему «часовщика» и каждый раз благоговейно спрашивал в конце: «Починили?»
Но подлинным шедевром был, конечно, этюд, исполненный Шурой Завьяловой. Это та самая Завьялова, которая потом стала известной актрисой кино, сыграв главные роли в фильме «Фро» и сериале
«Тени исчезают в полдень». Она приехала из Тамбова
в большой город и закружилась в хороводе новых
знакомств, развлечений, соблазнов. Ей вообще было не до учебы. Молодая, красивая, кровь с молоком, неопытная, она казалась легкой добычей для многочисленных донжуанов. Часто опаздывала на занятия или вообще не приходила. К. П. выговаривал ей,
но от нее все отскакивало, как от стенки. Наконец
К. П., разозлившись, сказал: «Завьялова, я Вас не допущу до зачета!»
— Хорошо, хорошо, покажу я Вам Ваш этюд.
Завтра.
С утра мы по указанию Шуры сооружали на сцене что-то грандиозно-непонятное. Фанерные ящики, служившие в институте декорациями и называемые кубами, мы складывали друг на друга, составляя самые невероятные фигуры. Потом притащили
из других аудиторий чужие кубы и нагромоздили их
сверху, в результате получилась какая-то гигантская
свалка, почти упирающаяся в потолок. Мы сгрудились на оставшемся от этого сооружения пятачке
и ждали начала представления.
— Можно? — раздался Шурин крик из-за кулис.
— Да, — откликнулся Константин Павлович.
Сначала был слышен какой-то шум, по которому мы догадались, что Шура где-то там за кулисами и карабкается наверх. Потом, балансируя руками,
она показалась на самой вершине, почти под потолком. Покачавшись и обретя шаткое равновесие, она
поднесла ладони ко рту, как рупор, и, подняв голову
вверх, протяжно закричала: «Спасите-е-е!»
То ли от ее крика, то ли по какой-то другой причине внутри этой кучи что-то треснуло, грохнуло, и все
эти кубы посыпались вниз, поднимая невероятное
облако пыли и раскидывая вокруг щепки. Шура исчезла, провалилась куда-то внутрь этой свалки. Мы
все на миг оцепенели от ужаса и сразу же бросились
на помощь. И тут неожиданно из пыльного облака
показалась живая Шура. Платье на ней было порвано, большая царапина пересекала ее красивое лицо.
— Нет, назад! Ни с места! Так нужно! — закричала она нам, предостерегающе вытянув вперед руку.
Мы остановились.
— Шура, — взволнованно спросил К. П., тоже
встав из-за стола, — Вы не ушиблись? У Вас все в порядке?
— Да, так нужно.
— А зачем? Что это было?
— Этюд.
— Этюд?
— Да. Называется «Обвал в горах».
Да, Шура умела удивить. Спустя три года мы готовили дипломный спектакль «Женитьба» Гоголя.
Шура играла Агафью Тихоновну, невесту. Все шло
вполне нормально, пока не появились костюм и грим.
Она категорически отказывалась выглядеть дородной купчихой, как написано у Гоголя.
— Шура, — выходил из себя режиссер, — Вы же
слышите, что говорит о вас Жевакин: «Я большой
аматер насчет женской полноты». Шура, это не моя
прихоть, это Гоголь написал! Что прикажете, вымарывать текст?
Шура держалась до последнего. Секрет ее упорства
объяснялся бурным романом с поэтом
Хаустовым — ну, не могла она появиться перед ним с толстым задом
и необъятной грудью. Не в силах была Шура пожертвовать любовью ради искусства. За два дня до экзамена режиссер поставил ультиматум: «Или Вы подчиняетесь, или играть будет Страдина. Выбирайте».
Шура подчинилась. Оставшиеся две генеральные
она покорно надевала толщинки, делала курносое
лицо и вообще очень смешно и органично репетировала. Все успокоились.
И вот волнующая и долгожданная премьера. Режиссер зашел посмотреть, как артисты одеваются
и гримируются. Увидев, что Завьялова сидит уже
в платье с толщинками, он одобрительно покивал головой, сказал «Ни пуха, ни пера» и ушел.
Первая сцена Подколесина и Степана прошла довольно живо, публика внимательно смотрела и даже в некоторых местах смеялась.
И вот вторая картина — в доме
Агафьи Тихоновны. Когда она вышла на сцену, все ахнули. Шура
была в черном платье Донны Анны из «Дон Жуана», другого нашего
дипломного спектакля. Талия была затянута до невозможности. На
бледном лице сверкали глаза с густо намазанными тушью ресницами.
В руке — веер. Это она успела переодеться и загримироваться за время первой картины.
Диплома об окончании института ей не дали, а
дали справку о том, что она прослушала институтский курс. Шуру это нисколько не расстроило, потому что Хаустову она очень понравилась.
Курс наш был какой-то разномастный. Многие
приехали из провинции, жили в общежитии, довольно бедно даже на фоне не очень богатых ленинградцев. Что касается меня, то утром я получал от матери три рубля. Из них шестьдесят копеек уходило
на трамвай туда и обратно, рубль — на сигареты «Памир», самые дешевые, и на оставшиеся рубль сорок
покупались два пирожка и чай. Так я прожил четыре
институтских года. Одежду и завтрак с ужином обеспечивали родители.
Завтрак — чай с булкой. Ужин — макароны по-флотски и компот. Еще я получал стипендию, на первом курсе — 22 рубля, потом — 27, а на
четвертом — 30 рублей. Мама ее копила, и летом я куда-нибудь ездил. Ребята же в общежитии жили на одну стипендию, из дома им никто не помогал.
Юра Иванов, например, прожил четыре года на
булке с вареньем. Буквально. Я сам видел. Он брал
батон, разрезал его на две половины, они выглядели
как две индейские пироги, сверху намазывал вареньем и постепенно, не торопясь, чтобы не икать, проталкивал их себе в желудок. Так он делал три раза в день,
это был его завтрак, обед и ужин. Менялось только
варенье — клубничное, или смородиновое, или яблочное. Ничего другого он позволить себе не мог.

«Мораль пани Дульской». Сцена из спектакля. Вторая слева А. Фрейндлих.
Фото из архива СПГАТИ
Но были у нас и аристократы. Две девушки — Наташа Соловьева и Тамара Страдина. Наташа была высокая нежная блондинка, балерина, только что закончившая Вагановское училище, дочка известных ленинградских артистов Соловьева и Инютиной. Она
красиво одевалась, от нее вкусно пахло какими-то
духами. Она была милой и простой в общении, очень
мягко и необидно отшивала ухажеров.
А Тамара Страдина была дочкой знаменитого кинооператора, лауреата
Сталинской премии за съемки блокадного Ленинграда. Она тоже была очень хороша — брюнетка, небольшого роста, с точеной фигурой, серыми глазами, бойкая и смешливая. Вокруг нее тоже всегда толпился народ, и так же безуспешно, как и вокруг Наташи Соловьевой.
Мы были очень разные. Мы никогда не устраивали никаких совместных вечеринок, капустников.
Я очень скучал по атмосфере, которая была в моем
родном драмкружке, — любви, шутки, взаимной
поддержки. Тем более что рядом на зоновском курсе все это было.
Это вообще был блистательный курс во всех отношениях. На их зачеты и экзамены собирался весь
театральный Ленинград. Там было просто созвездие
талантов, в том числе и Алиса Фрейндлих. Но самой
большой звездой была не она, а Нина Василькова, которой все в один голос прочили будущее великой актрисы. Зон про нее сказал: «Я полвека занимаюсь педагогикой, и впервые мне посчастливилось встретиться и работать с настоящей трагической актрисой». Высокая, статная, с красивым, крупной лепки
лицом, горделивой посадкой головы, с низким, но
не глухим голосом с чарующими модуляциями. Она
играла в «Легенде о любви» Назыма Хикмета, дипломном спектакле, и ошеломила такой силой любви
и страдания своей героини, что эти чувства казались
уже космическими. Товстоногов пригласил ее в БДТ
после третьего курса, поругавшись с Зоном, который
был категорически против. Он считал, что Нина еще
не дозрела окончательно.
Да, неисповедимы пути актерские! Никто не может знать, что с ним будет через 5, 10, 15 лет карьеры.
Как часто, к сожалению, жизнь складывается
по такой схеме: блестящий студент — и неудачник в профессиональном театре. Из моего курса в артистах
остался я один из 25 человек, а я не был первым студентом. И даже вторым.
Не сложилась карьера и у Нины Васильковой. Не
вышла первая роль в БДТ (по-моему, Клеи в «Лисе
и винограде»), вторая в «Идиоте». Что-то еще она
сыграла тоже неудачно, и Товстоногов задвинул ее
в дальний угол. Она перешла в другой театр, им. Ленсовета, и снова ничего. Может быть, действительно,
она рано ушла от Зона? Не окрепла в мастерстве, не
доучилась? Потом она вообще ушла из театра в Ленконцерт и читала по общежитиям и жилконторам
стихи и прозу.
Очень талантлив был Юра Родионов. В институте он играл Егора Булычева. Играл замечательно, как
уже зрелый мастер. Был принят в труппу Пушкинского театра, сыграл там Пушкина и еще несколько значительных ролей и обещал стать большим артистом,
но помешала серьезная болезнь. Ужасно жалко.
У Зона был принцип по возможности формировать курс так же, как подбирается труппа в русском
профессиональном театре, — чтобы можно было сыграть «Горе от ума» Грибоедова и «Ревизора» Гоголя.
На его курсе были представлены все амплуа. Героиня Василькова, герой Родионов, простак Костя Кадочников, стервь-кокет Прохорова и т. д. Были
и травести: Рита Батаева и Алиса Фрейндлих. Причем
Рита была «девочкой», а Алиса «мальчиком». Батаева
потом, после института, успешно, пока не «состарилась», работала в ТЮЗе. Ну, а про Фрейндлих всем
известно. Но тогда в институте ничто еще не предвещало в ней будущей великой актрисы. Она и Рита
очень мило играли в «Морали пани Дульской» двух
девочек. Но и только.
Алиса занимает очень большое место в моей жизни. Мои лучшие, самые счастливые театральные
годы теснейшим образом связаны с ней, с Игорем
Владимировым, с театром имени Ленсовета. С Алисой особенно. Двадцать с лишним лет почти каждый
день мы встречались в театре, были заняты в одних
и тех же, как правило, спектаклях, дружили, пили
водку. И даже наша свадьба с Ириной Мазуркевич
была у Алисы, потому что своего дома у нас тогда
еще не было.
А познакомились мы с ней в 1954 году, полвека
с гаком тому назад. Их курс был на год старше, и мы
немного робели перед ними. Но летом 56-го мы случайно встретились с Алисой в Сочи, вместе проводили время и подружились. Мы — это я и Олег Мищук,
мой институтский друг и сокурсник. А она была
с мужем Володей Карасевым, своим сокурсником.
В «Ревизоре» он играл бы Городничего по раскладу Зона — представительный, солидный и довольно красивый. Когда пришла пора возвращаться, мы
с Олегом решили напоследок как следует гульнуть
в ресторане на Ахун-горе и ехать домой в плацкартном вагоне. Алиса с Володей к нам охотно присоединились. Не знаю, как сейчас, а тогда это было шикарное место. Очень красивые горы, море, оркестр играет, шашлыки жарятся, водка, вино, цыплята табака — полный набор южных удовольствий. В тот вечер там
гуляла большая компания не то узбеков, не то киргизов. Поочередно кто-нибудь из них, пошатываясь,
подходил к оркестру, доставал из халата, из-за пазухи, кучу денег, совал их солисту, и оркестр играл какую-нибудь среднеазиатскую мелодию. А заказчик,
раскинув руки в стороны, танцевал на площадке перед столиками. Он садился, а вместо него шел следующий, и история повторялась. Мы выпили, съели по
цыпленку, захмелели, и нам тоже захотелось попеть
и потанцевать, только не под эту бесконечную, заунывную мелодию, единственную, наверное, которую знал местный оркестр. Обогнав очередного киргизо-узбека, мы подбежали к оркестру.
— Ребята, сыграйте «Мишку», только у нас денег
мало.
— Черт с ними, — обрадовался солист, — сыграем
«Мишку», а то мы от них уже о…ли.
Оркестр оживился и заиграл «Мишку». Это был
самый модный шлягер в стране летом 1956-го года.
Слова были такие:
Ты весь день сегодня ходишь хмурый,
Не сердись, любимый мой, молю.
Слышишь, ну не надо, Мишка милый,
Я тебя по-прежнему люблю.
Дальше шел припев:
Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Самая нелепая ошибка —
То, что ты уходишь от меня.
Мы вчетвером выскочили на середину и, образовав кружок и взявшись за руки, стали прыгать и голосить под шум оркестра «Мишку». Причем Алиса после слов: «Самая нелепая ошибка», вместо полагающейся здесь паузы, громко выкрикивала: «Пипка!»
Узбеки были в восторге. Нас пригласили к их столу, но мы вежливо отказались и покатили домой.
С тех пор прошло ровно 50 лет.

С. Юрский в учебном этюде.
Фото из архива СПГАТИ
А на год младше нас был курс Макарьева. Не такой
блистательный, как зоновский, но, безусловно, очень
талантливый. И снова я должен отметить, что один
Сергей Юрский стал украшением русского театра, и
не только как артист, но и как режиссер и литератор.
Перед театральным институтом он успел окончить
три курса Ленинградского университета по юриспруденции, играл в знаменитом университетском театре и практически был уже мастером. Макарьев ему
говорил: «Сережа, зачем Вам институт? Мне нечему
Вас учить». Но Юрский добросовестно вместе со всеми делал этюды, превращая каждый из них в маленький и вполне законченный спектакль. Он был неистощим на выдумки, фонтанировал идеями и щедро делился ими со всеми. Он был сутуловат и, чтобы исправить осанку, ходил с палкой за спиной, зажав ее под
мышками. Я как-то попробовал и сдался через десять
минут: очень больно и неудобно. Юрский сочинял капустники, ставил их, писал стихи, пародии, бегло говорил по-французски. Когда Советский Союз умирал от восторга по поводу приезда на гастроли Жана Виллара со своим театром, он написал такие строчки на мотив песни Марка Бернеса
«Когда поет далекий друг»:
Мой друг, мы с тобой реалисты,
Типичность — наш первый девиз.
А все формалисты суть капиталисты,
Искусство их катится вниз.
Когда играет Жан Виллар,
То не захочешь очень долго в писсуар,
И сокращаются большие расстоянья,
Когда играет Жан Виллар.
Сережу еще в институте отличала способность
быть самому себе режиссером. Это очень редкое сочетание уникального актерского таланта с глубоким
рациональным анализом роли. Когда я слышу выражение «человек-оркестр», передо мной сразу появляется Сергей Юрский.
Одновременно с нами набрали и режиссерский
курс. Там были ребята много нас старше, некоторые
успели даже повоевать, кем-то уже работали, но потянуло их в театр, да, видно, так сильно, что не остановиться. И, все бросив, пришли они, взрослые, многие с сединой, сели за парту и начали, считай, жизнь
сначала. Но несколько человек были совсем юные,
вчерашние школьники. К ним относились подозрительно. Считалось, что режиссура предполагает
жизненный опыт, зрелость, чтобы было что сказать
зрителю. Среди "салаг«-режиссеров был и Алексей
Герман, сын писателя Юрия Германа. Про него говорили, что взяли его по блату, из-за отца, хотя парень
он был хороший — веселый, остроумный, компанейский. У него можно было стрельнуть в долг денег. Он
умудрялся давать деньги так естественно, что берущий не чувствовал себя неловко, не чувствовал себя
нищим перед богатым. Помню, как-то он говорит:
— Представляешь, везуха! Кинулся купить книгу,
а ни копейки нет. Ну, на всякий случай полез в старые костюмы поискать по карманам, не завалялись
ли где-нибудь деньжата. И, можешь себе представить, таки нашел в штанах 15 рублей.
Я не мог себе представить ни множества костюмов в шкафу, ни завалявшийся в них хотя бы рубль,
про который я бы не знал. Но Леша так искренне радовался, что не приходило в голову ему завидовать.
И вот этот мальчик, не нюхавший пороху маменькин
сынок, с блеском показывает на экзаменах несколько
отрывков и становится одним из лучших на курсе.
Если я скажу, что время меняет людей, я не скажу
ничего нового, но это так. Прошло много лет, я работал в театре Ленсовета, вдруг звонок с Ленфильма
из группы Германа: «Анатолий Юрьевич, мы проводим пробы для фильма „Мой друг Иван Лапшин“,
Алексей Юрьевич очень хотел бы попробовать Вас
на одну из главных ролей — журналиста. Как Вы на
это смотрите?»
— С удовольствием.
— Тогда я Вам занесу сценарий.
Мне показалось, что роль не совсем моя, но это
не имело значения, режиссеру видней. В назначенный день я являюсь на пробу. В гримерной сидит Николай Губенко, его тоже вызвали пробоваться — на
Ивана Лапшина. Мы познакомились, даже пробежали пару раз сцену. Появляется Герман. Мы, как
водится, целуемся как старые однокашники и после
быстрого обмена репликами:
— Ну, как? Все нормально?
— Нормально, — приходим в павильон. К съемкам
все готово. У Германа даже для проб и декорация,
и костюмы, и реквизит тщательнейшим образом
отбираются, чтобы соответствовать эпохе и среде.
Смотрю на старые, помятые латунные чайник и лампу, столовые приборы, тронутые ржавчиной, потертую скатерть — все подлинное. Начинается съемка. Я стараюсь, но через некоторое время начинаю
замечать, что Леша, главным образом, занимается
Губенко. А я как бы остаюсь в стороне. И снимают
странно: камера все время смотрит в лицо Губенко
и в мою спину, когда мы разговариваем. Обычно сцена, диалог снимаются дважды, так называемой «восьмеркой». Сначала — лицо одного актера, спина другого, потом — наоборот. И монтируется.
А здесь — только в сторону Губенко.
— Леша, — говорю, — а что я все время спиной?
— Да ты что, — говорит Герман, — ты просто не
видишь, камера тебя берет. Все нормально.
Ну, нормально, так нормально. Тепло прощаемся,
и с некоторой надеждой на благополучный исход еду
домой в хорошем настроении. На Фонтанке, недалеко от дома, встречаю Киру Ласкари, брата Андрея
Миронова, человека замечательного — балетного артиста, балетмейстера, драматурга, бабника, самого
остроумного человека из всех, встреченных мною за
всю жизнь.
— Куда, откуда?
— С Ленфильма, — отвечаю я неопределенно, боясь сглазить.
— Понятно, — говорит Кира, — знаешь, Леша
Герман начинает картину? Вчера приезжал Андрей,
подписал договор.
У меня в груди что-то екнуло.
— А кого он будет играть?
— Герман его уговорил сыграть своего отца. В сценарии он выведен журналистом. А у тебя что?
— Да так…
Я не мог опомниться от услышанного и, еще что-то промямлив, попрощался.
Все встало на свои места. И то, что меня снимали
в спину, и безразличие Германа. Ну как же он мог?
Товарищ, однокашник, сам натерпевшийся и униженный киношным начальством, годами сидевший
без работы, как он мог так цинично меня использовать? Ему нужно было попробовать Губенко и больше ничего. Ему было абсолютно наплевать на меня,
мое самолюбие, мое время и на мои надежды. Таковы
у нас нравы в кино и в театре — они развращают
даже лучших.
У меня дела в институте довольно долго шли неважно. В этюдах с воображаемыми предметами я ничего не мог вообразить. А Константин Павлович настаивал, что надо предмет ясно увидеть во всех подробностях, а затем уже с ним манипулировать. Но
у меня ничего не получалось, так что эта тема просвистела мимо, никак не приблизив меня к профессии. Дальше пошли этюды со словами. Я выходил
на площадку с одной мыслью — скорее бы все это
кончилось. Мне было неловко, стыдно, я не понимал, зачем это все, и подумывал об уходе из института. Помог случай.
Юра Иванов, тот самый, что ел булку с вареньем,
делал этюд под названием «Бессонница». Он изображал человека, который крутится на кровати и так,
и этак, чтоб заснуть. Пробует то книжку почитать,
то выпить валерьянки — ничего не помогает. Наконец к нему приходит долгожданный сон, но вот
беда — как только его глаза закрываются, так какая-то подлая мышь начинает скрестись в углу. Он ее прогонит, а она уже — в другом углу и опять скребется. Юра и слова к этюду придумал: «Черт бы тебя
побрал!» Каждый раз, когда он вскакивал с постели прогнать мышь,
он говорил: «Черт бы тебя побрал!» — и ни слова больше. Когда пришло время
показывать этюд Хохлову, Юра попросил меня подыграть ему — поскрестись мышкой. И вот Юра показывает свой этюд К. П., а я бегаю за задником то
в левый угол, то в правый — скребусь. Минут через
десять я подумал, что этюд у Юры скучноват и надо
бы ему закругляться. Действительно, каждый раз
он ложился, тут же вставал, шел в угол и, наклоняясь к полу, говорил: «Черт бы тебя побрал». Потом
все опять повторялось, но уже в другом углу. Видно,
не только мне этюд показался длинноватым, потому что Константин Павлович вздремнул ненадолго,
а очнувшись, сказал:
— Спасибо, Юра.
Юра остановился, а я, не поняв, что все уже кончилось, продолжал скрестись.
— Мышка, мышка, спасибо, выгляни сюда, — уже
громко сказал К. П., и я выглянул. Поскольку Константин Павлович просил выглянуть мышку, я и появился, изображая мышку: съежившись, я осторожно высунул глаз и нос из-за кулис и понюхал. Все
грохнули. Смеялся даже К. П. Мне было приятно, но
я не очень понимал, что их так рассмешило.
— А знаете что, Толя, сделайте-ка этюд по картине
Репина «Курсистки», — внимательно глядя на меня,
предложил Константин Павлович.
Сюжет картины, мне дотоле неизвестной, был
прост и понятен. Два молодых человека, студента,
переглядываются и кокетничают с двумя милыми девушками. Те делают уроки и тоже поглядывают через окно на студентов. Это было так похоже на нас, на
нашу студенческую жизнь, что мы на лету сочинили
не один, а даже несколько этюдов. И все получалось
как-то удивительно легко и весело. И когда я играл
этот этюд, то неожиданно ощутил такой азарт и удовольствие, что не хотел уходить с площадки. Я не замечал, что и как делают мои руки и ноги, а они все
делали сами правильно, потому что это была МОЯ
роль. Это был очень важный этап для меня. Я начинал что-то про себя понимать. Что мое, а что — нет.
И еще — что на сцене бывают счастливые минуты.
Учеба подходила к концу. Я был занят в двух дипломных спектаклях — «Дон Жуан» Леси Украинки
(Сганарель) и «Двадцать лет спустя» Светлова (Налево). Играл Сганареля ничего, так, на четверку.
А поэта Налево — очень плохо. Особенно отвратительно читал стихи. Почти так же, как при поступлении в институт.
Ни в один театр я не пошел показываться: был
уверен — не возьмут. И к нам на экзамены никто не
ходил. Так что дальнейшая дорога была для меня
ясна — в провинцию. Меня это не огорчало, хотелось самостоятельной жизни, новых впечатлений,
новых людей. А тут как раз понаехали
«купцы» — главные режиссеры и директора провинциальных
театров слетались к концу учебного года и зазывали
к себе. Помню, были предложения из Петрозаводска,
Пскова, Новгорода и Комсомольска-на-Амуре. «Если
уж ехать, так ехать далеко», — решили мы и подписали свой первый контракт с главным режиссером
театра в Комсомольске Евгением Николаевичем Беловым. Мы — это я, моя жена Лена Добросердова
и мой друг Слава Попов. Все мы были с одного курса.
О, как умеют уговаривать театральные начальники,
когда им нужно! Перед нами была нарисована красочная картина будущей счастливой жизни трех молодых талантливых специалистов в солнечном городе Комсомольске. В отдельных квартирах с окнами
на Амур-батюшку, с магазинами, полными икры, балыков, китайских фруктов! При этом ни слова о том,
что они играют 10–12 премьер в год, что у театра нет
своего помещения и они играют в ДК. Нет, нет, все
чудесно, интересно, романтично — надо, надо ехать!
Тем более приятно удивили довольно большие подъемные, мы таких денег и не видали никогда. И бесплатные билеты. Вообще-то, сам по себе главреж
Белов был довольно хороший мужик, а лукавить его
заставляла нужда. Театр погибал без молодых артистов, они были нужны ему как воздух. А их не было,
потому что никто из Москвы и Ленинграда не хотел
ехать на край земли в маленький город с лютыми морозами и жителями, понятия не имевшими, что значит «пойти в театр». Вот он и обещал горы золотые,
а мы ему поверили и, переполненные радостными
ожиданиями встречи со своим первым в жизни театром, первой ролью, первым успехом, сели в поезд
и поехали навстречу своей судьбе.
С тех пор прошло 50 лет, и я ни о чем не жалею.
Март 2007 г.



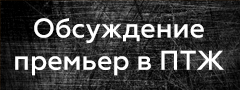





















































































комментарии