Она всегда была довольна собой и всегда хотела меняться. Впрочем, перемены неизбежны, ибо Пражская Квадриеннале через сценографию, костюмы, архитектуру, выставочный дизайн отражает движение театра. Поэтому каждый раз Институт театра в Праге предлагает новые экспозиционные идеи. Замечу сразу же, что всю тяжесть финансирования дорогостоящей выставки берет на себя чешская сторона — Министерство культуры, Пражский муниципалитет, другие чешские организации.

«Сердце Квадриаеннале». Площадка. Фото из архива автора
В июне этого года ПК состоялась в десятый раз. На том же месте — в огромном Дворце Индустрии на Выставиште, построенном сто лет тому назад в стиле хорошего европейского ар-деко. Несколько тысяч кв. метров традиционно делятся на три части — левая предоставляется национальным экспозициям стран-участниц (их количество неуклонно растет и в этот раз перевалило за 50). Правую занимают архитекторы и школы. А центр отдается новым проектам. В этот раз проект назывался «Сердце Квадриеннале» (в прошлый — «Homage to scenography») и предоставлял специально спроектированную пятиуровневую площадку для перформансов и прочих действ, призванных воплотить пять чувств человека. Питерский Русский инженерный театр АХЕ работал на ниве вкуса (в смысле еды) и имел успех. Новые идеи предлагались и в традиционных разделах. Так, участников национальных экспозиций призывали на этот раз отказаться от стен и прочих перегородок, чтобы их искусство выражало единство мировой культуры. Идея наивная, но идея. Особенно если вспомнить, что в прошлый раз упор делался на национальную идентичность. Идее единства должен был послужить новый принцип расположения национальных экспозиций — не по алфавиту, как ранее, а «по глобусу», по географической карте (вход на экспозицию был через Австралию, потом шел Дальний Восток, заканчивалось путешествие странами Центральной и Латинской Америки). Сопоставление стран-соседей было более наглядным. Соседство павильонов США и Канады, например, демонстрировало более высокий уровень профессионализма канадцев. Российский павильон был рядом с прибалтийскими странами, где рудименты некогда близких школ надстраивались в совершенно разных манерах. Девизом нынешней Квадриеннале стало изречение знаменитого чешского мыслителя XVII века Яна Амоса Коменского, звучавшее так: «Лабиринт мира и рай театра». Наличие лабиринта мира не вызывало сомнений, а вот «рай театра» порой наводил на грустные размышления. Кроме одного: количество талантов, мастерство, желание поразить, продемонстрировать свою уникальность, выделиться, заключенное в замкнутом пространстве Дворца Индустрии, порождало некое сотрясение, какие-то разряды неведомой энергии. Что же касается «единства мира», то оно ощущалось, прежде всего, в наличии неких новых клише. Но об этом чуть позже… Костюмы организаторы ПК тоже предлагали ныне представить без «национальных перегородок», в виде единой «толпы драматических персонажей», не выделяя страны и мастеров. Скажу сразу, что призыв хозяев ПК в отношении национальных экспозиций и костюмов не был услышан многими, перегородки стояли, более того, ряд стран заключили свои экспозиции в абсолютно замкнутые пространства, пролезть в которые можно было только через узкую щель (и ощутить приступ клаустрофобии). А сотни костюмов на манекенах, поставленных по диагонали зала, поначалу казались сделанными в одной костюмерной мастерской. Что, согласитесь, выглядело как пародия на идею единства культур. Может быть, именно в предчувствии этого некоторые страны выставили костюмы в своих национальных павильонах. И выиграли, в том числе и медали ПК (Великобритания и Финляндия).

Р. Хадсон (Великобритания). Эскизы декораций к спектаклю «Тамерлан». Фото из архива автора
Здесь нелишне напомнить, что ПК — это выставка-конкурс, где работает международное жюри (Россию представлял Валерий Левенталь), где есть главный приз — «Золотая Трига» за лучшую национальную экспозицию, золотые и серебряные медали, почетные дипломы, где кипят соответствующие страсти.
Ну, а теперь скажите, что должен чувствовать человек, перед которым в огромном пространстве Дворца Индустрии явлены сотни произведений сотен художников? Надежду, что здесь, наконец, видно будет, куда идет современный театр (надежда, сразу скажу, оказалась эфемерной). И досаду, что невозможно объять необъятное за ту неделю, что предстояло быть на ПК. Многие страны предложили видеозаписи спектаклей, и, чтобы посмотреть их все, и месяца не хватило бы. И некоторые страны так густо набили свои павильоны фотографиями, эскизами, техническими разработками, принадлежащими десяткам художников, что рябило в глазах и выделить что-то качественное было очень трудно. Поэтому низкий поклон профессионализму жюри, которое переварило всю эту необъятность и вынесло свои решения.
Что до меня, то я, действительно, очень хотела увидеть, куда движется современный мировой театр. Увидеть через сценографию. Потом поняла, что это невыполнимо. Интересное решение художника может потонуть в заурядном спектакле, а реальное влияние на мировой театральный процесс нередко оказывали постановки, где художник был «спрятан» внутри сложной сценической композиции. Может быть, именно желание доказать роль художника в развитии спектакля объясняло присутствие на ПК 2003 невероятного количества цветных фотографий.

Р. Хадсон (Великобритания). Эскизы декораций к спектаклю «Тамерлан». Фото из архива автора
Это началось не сегодня. Но на прошлой ПК все же количество рукотворных работ (эскизов, рисунков, раскадровок, набросков) было весьма значительным. Ныне их гораздо меньше, чем фотографий. Я бы поняла, если бы эту выставку делали режиссеры, которым важно развитие, изменения, череда мизансцен. Почему художники предпочитают показать свою работу через фотографию? Не потому же, что заурядный спектакль можно эффектно и красиво сфотографировать? Но столь же несложно провалить хорошую работу в плохих фотографиях. Мастерство фотохудожника призвано заменить мастерство сценографа? Спросила об этом известного чешского сценографа Ярослава Малину, генерального комиссара ПК. «Ну, фотографии дают полезную дополнительную информацию о спектакле», — сказал он. «Относительно дополнительной — согласна. Но почему у многих они появляются вместо рукотворного эскиза?» — «Возможно, кто-то из коллег уже разучился рисовать», — усмехнулся Малина.

Так это или не так, но количество и качество созданного рукой художника неуклонно убывает на ПК. На нынешней выставке преобладают макеты. Но макет — это мысль художника, воплощенная точным мастерством макетчика. Может быть, поэтому холодная рационалистичность доминирует в работах художников разных стран. А может быть, и потому доминирует, что нынче многие преданы минимализму. И когда его много, становится невероятно тоскливо. В некоторых случаях макеты и фотографии доносят, конечно, силу и оригинальность образного замысла художника. Как, например, у Ричарда Хадсона в «Тамерлане» Генделя (Великобритания): лаконичное, элегантное решение в макете, модификации которого даны в нескольких превосходных фотографиях: белое пространство с синими и серыми фрагментами, запечатленное на фото, вызывало ощущение честности. Как, впрочем, и вся экспозиция Великобритании, получившая главную награду ПК «Золотую Тригу». Причем, что любопытно, во второй уже раз. А устав ПК разрешает присуждать «Тригу» только единожды. В чем же дело? Наверное, в том, что первая «Трига» была присуждена англичанам в 1979 году и с тех пор каждая очередная экспозиция этой страны отличалась честностью, отсутствием экспозиционных ухищрений, сосредоточенностью именно на работах художников, стремлением к максимально всестороннему показу спектакля и обязательным присутствием рукотворных листов хорошего класса. Так что организаторы ПК и жюри посчитали, что запрет на присуждение второй «Триги» нужно оставить в прошлом веке, а с нового века вести новый отсчет. И, наверное, они правы.
Если же говорить о новом в сценографии, что показала ПК, то это крайне любопытный возврат к тому, что в нашей литературе называлось концепцией «единой пластической среды». Появился этот тип декорации в конце 1960-х гг. в спектаклях Э. Кочергина, М. Китаева, Д. Лидера, А. Фрейбергса в пору, когда сценография брала на себя львиную долю философской нагрузки, когда стремление создать «образ мира» доминировало и нередко вело за собой режиссуру. На нынешней ПК вы могли увидеть постоянную, единую на весь спектакль среду в работах художников самых разных стран применительно к самым разным пьесам. Этот тип декорации никогда, в общем, и не исчезал с момента своего возникновения. Лет 15 тому назад он использовал так называемое «найденное пространство» — подлинные цеха заброшенных фабрик, полуразрушенные вокзалы, склады и т. п., где игрались спектакли. Продолжается эта линия и сегодня. Но на нынешней ПК «найденное пространство» тщательно воссоздается на сценических подмостках с максимальной натуральностью. Получается как бы реальная среда. А поскольку сегодняшняя режиссура ищет максимально экстравагантные места действия для классических пьес, максимально далекие от тех обстоятельств, которые виделись их авторам, то обозначился и круг излюбленных помещений — прозекторские, помойки, сортиры, полуразрушенные холлы гостиниц, останки старых театральных зал и т. п. «Мы хотим дать вам возможность нового, более острого восприятия старой пьесы в этом жестоком, жестоком, жестоком мире», — восклицают постановщики хором. Вот один голос из хора: «Электра» Рихарда Штрауса в Гетеборгской опере (серебряная медаль художникам Л.-А. Тессману и К. Эрскине). Грязновато-серый, облупленный холл бывшего отеля. Там, где были бра, — электропровода, вырванные из стен. Закрывшиеся навсегда двери. Мертвый лифт, остановившиеся огромные часы. Мусор на полу и в могильной яме, занимающей первый план сцены. В финале, когда месть совершена, стрелки часов начинают бешено вращаться, лифт ездит вверх-вниз, черные двери открываются, и там что-то вроде бойни (какие-то туши, сочащиеся кровью). Потом все снова замирает, погружаясь во тьму. Столь же радикально передислоцирован «Зигфрид» Вагнера в Штутгарте — то ли в некую кухню в белом кафеле со столами нержавеющей стали, то ли в прозекторскую. На Чеховском фестивале недавно показали «Прекрасную мельничиху» К. Марталера, где он и художник Анна Фиброк предъявили тот же тип декорации: большое прямоугольное помещение, сложенное из облезлых бетонных плит, с двумя роялями и парой пианино, стенными шкафчиками, электрощитком, кухонькой на заднем плане, где могут подкрепиться персонажи. Оно явно было чем-то в эпоху ГДР (возможно, гостиницей, от которой остались чучела глухарей), а теперь стало чем-то вроде приюта для бездомных или отстойника для тихих психбольных. Словом, любят нынче такую вот единую среду в Европе.

Но вот что примечательно, так это отличие «нашей» единой пластической среды от «их». Наша-то была сочиненная, причем в процессе сочинения художник проживал пьесу, пропускал ее через сердце, через сострадание. И точнейший расчет мастера не убивал живого чувства. Вспомните хотя бы «Насмешливое мое счастье», «Историю лошади» или «Бориса Годунова» Э. Кочергина. «Давно это было», — скажете вы. Да, давно. Но бочка, та самая бочка, которую наполняют новыми моделями, похоже, заполнена доверху и требует, чтобы ее перевернули. Разумеется, повторение не будет буквальным и единственным.

Костюмная экспозиция. Польша. Фото из архива автора

Костюмная экспозиция. Польша. Фото из архива автора
О том, что «носят» ныне в мировом театре, наиболее четкое представление дал конкурс, который в рамках ПК провела комиссия по образованию ОИСТАТ, — конкурс молодежных проектов решения одной пьесы — «Короля Лира» («Лир и наше время»). Около 40 проектов: макеты, эскизы декораций (здесь они наличествовали), эскизы костюмов, раскадровки, чертежи. Таковы были условия. Но, вероятно, эта пьеса не по зубам юным художникам. Вернее, не по возрасту. Единственного решения не оказалось, но зато этот конкурс собрал почти все, что используется ныне в постановке классики, Шекспира в частности. Так, одевают шекспировских персонажей преимущественно в суперсовременное (камуфляж, майки, шорты), дамы — в вечернем, повседневном, исподнем. Встречаются костюмы 20-х или 50-х годов прошлого века, а также всех других веков, предпочитается либо конец ХIХ, либо праисторическая древность. Набор пространственных решений также репрезентативен: спектакли-путешествия, где действие перемещается на фоне старинной архитектуры или по территории пустующих цехов и складов современной фабрики, а зрители следуют за актерами; специально построенные сцены на озере (спектакли на воде сегодня популярны и у взрослых постановщиков) или в долине на фоне лесистых гор. Предлагают играть «Лира» в студенческой столовой (на столах), в современном баре, в ротонде XVIII века; на городской площади в окружении искореженных взрывами небоскребов, на помойках, в бидонвиллях, в концлагерях. Используются многоуровневые сцены из строительных лесов и дощатых настилов, металлические фермы и вообще «чего-то индустриального» в соединении с проекциями, что и в национальных экспозициях не редкость. То есть молодежный конкурс собрал все, что накопил театр к ХХI веку, и у них это оказалось наиболее откровенно и наглядно, так как примерялось на одну и ту же пьесу. И еще они с младых ногтей сознательно и разнообразно проектируют мощное участие света в оформлении спектакля. И так же, как и взрослые, пишут имя художника по свету во всех без исключения этикетках к работам.

А. Виброк (Германия). Сцена из спектакля «Зигфрид»
Бесспорно, в ХХI веке появился третий участник создания визуального облика спектакля рядом со сценографом и художником по костюмам — lightdisigner или даже lightdirector. И, по всей вероятности, доля его участия в создании художественного продукта будет возрастать. Она и сегодня очень велика, что подтверждают видеозаписи многих спектаклей. Поэтому демонстрация электроосветительных новинок, семинары, которые проводятся в рамках ПК крупнейшими специалистами по свету и звуку, крайне полезны. И не только студентам. Но им, наверное, в первую очередь.
У студентов было замечательно. Накануне открытия пространство студенческого раздела кишело, как муравейник: каждый что-то докрашивал, прибивал, приклеивал, тащил, устанавливал. И делали все это страстно (в отличие от взрослых). Вот эта страстность впечатляла и заражала. А еще впечатляло количество. Ну зачем так много новых сценографов? Театр ведь не сможет востребовать всех… А их, будущих, здесь оказалось действительно много. Судите сами: участвовали 122 учебных заведения из 35 стран! Некоторые брали количеством (США, например, показали 23 школы), другие — качеством. Латвия представила только одну школу. Но это была Академия искусств, где Андрис Фрейбергс замечательно учит мыслить театром и овладевать подлинной пластической культурой, что и было подтверждено экспозицией. Россия показала только работу мастерской Э. Маклаковой (Школа-студия МХАТ) над историческим костюмом. Манекен с подвенечным платьем императрицы Екатерины Великой сопровождался показом всех стадий изготовления костюма, учебных заданий, технологических разработок и т. п. Это было серьезно, немногословно, со вкусом и привлекло доброжелательное внимание публики.
В студенческом разделе тоже было немало изобретательных, красивых, остроумных и дорогостоящих экспозиций. Бельгия, например, представила систему белых щитков, на которых расположились макеты, элементы костюмов, реквизит, изготовленные учащимися. Компьютерная программа, которую мог запустить каждый посетитель, поднимала-опускала эти щитки, создающие красивые пространственные композиции. А потом оказалось, что белый пол, на котором стояла вся эта система, можно было листать, как книгу. И поворот каждой страницы вытягивал новый белый макет, выраставший из белой же плоскости. Норвегия заполнила угол своей экспозиции набором ржавых холодильников с электронной начинкой, несколькими костюмами, поместив в центре большой параллелепипед из ржавого железа, в верхней плоскости которого было прорезано круглое отверстие, над ним в воздухе парил маленький белый шарик. Полностью оценить остроумие авторов мог, вероятно, только тот, кто видел учебный спектакль, на тему которого создана экспозиция. Такие, вероятно, тоже были в зале. А вот финская экспозиция не требовала ничего другого, кроме снисходительности к национальному юмору, ибо финны построили деревянный сельский сортир с двумя «очками». Поднимешь крышку, заглянешь, а там — эскизики, фотографии и прочее искусство… Школы США выставили свою изобильную, но не всегда качественную продукцию в нескольких породистых, старых чемоданах. Откроешь чемодан, а там все обклеено картинками.
Студенты работали плотно (наших, кстати сказать, в этот раз было немало). Бегали на дискуссии по поводу решения «Короля Лира», на доклады маститых искусствоведов и художников, на перформансы, бурно общались, находя мгновенный контакт со сверстниками из самых далеких стран (атипичная пневмония их не пугала). И непрерывно работали видеокамерами и фотоаппаратами… А у меня все вертелся вопрос: нужно ли современному театру такое количество новых сценографов? Конечно, конкуренция необходима, кто-то выживет в театре и займет там хорошее положение, кто-то уйдет в рекламу, выставочный дизайн и т. п. Кстати, ряд школ уже сегодня стремится готовить универсальных художников, приветствуя переход студентов в процессе обучения с одной специальности на другую (Австралия, например), но, судя по работам учащихся, выпустят разносторонних дилетантов. С рисунком вообще во многих западных школах дела обстоят весьма неважно, особенно на американском континенте. И положение усугубится, так как место рисования занимает работа на компьютере. Эту опасность организаторы ПК почувствовали точно, запретив выставлять в секции школ компьютерные разработки.
Так вот, о количестве… Эта проблема не только театра, где, как минимум, хотелось бы иметь соответствующее количество одаренных режиссеров, чтобы было художнику с кем… ПК — это, кажется, единственная художественная выставка международного уровня, где регулярно показываются школы разных стран. А представьте себе, какое столпотворение происходило бы в аналогичных пространствах, если бы на Венецианскую биеннале, к примеру, приехали студенты и педагоги всех школ мира, где учат станковой живописи! Да еще и со своими холстами и картонами! Или на международной выставке графики показали бы работы всех студентов, которые в разных уголках мира овладевают этим искусством… Так что спасибо ПК за то, что она представляет школы и тем самым ставит вопросы.
Но пора вернуться в ту часть Дворца Индустрии, где расположились национальные экспозиции. Как уже было сказано, многие страны пренебрегли пожеланием организаторов ПК обойтись без национальных перегородок и заключили свои работы в замкнутые пространства. Венгры, к примеру, воздвигли белый куб, который опирался на один только угол, увесили его карандашами на веревочках, предлагая каждому желающему оставить на белой поверхности рисунок или хотя бы автограф. И спустя три дня куб уже был густо разрисован-расписан. А особо любопытные пролезали по узкой лестнице внутрь куба, где находились сотни цветных ксерокопий и фотографий, разглядеть содержание которых было практически невозможно из-за свирепой духоты и маленького размера листов. Новозеландцы тоже построили кубик: стены набраны из белых пластиковых полосок, сквозь них можно проникнуть внутрь, где разные игровые дела, видеоаттракционы. И на качелях там можно было покачаться. Они и Почетный диплом получили с формулировкой: «За привнесение духа игры на Квадриеннале».
Надо сказать, что в этом году формулировки решения жюри были особенно изысканны. Так, Нидерланды получили Специальную серебряную медаль «За новый подход к показу живого современного театра», который выглядел так: на подиуме — длинный красный стол с мониторами. На каждом мониторе — видеозапись нескольких спектаклей группы художников, специализирующихся на создании представлений в природной среде. Над столом навис огромный красный же короб, внутри которого на трех больших стенах беспрерывно демонстрировался видеофильм, зафиксировавший спектакль на берегу моря («Waterland»). Только видео, компьютерная графика и цветные фото на мониторах.
А следующая строка решения жюри о присуждении Специальной серебряной медали гласила: «Российской экспозиции за разнообразие показа ретроспективы творчества Бориса Мессерера». Она, действительно, была разнообразной и цельной, эта экспозиция. Мессерер показал эскизы и макеты к балетам «Конек Горбунок» и «Светлый ручей» в Большом и к «Фаусту» на Таганке, костюмы, инсталляцию памяти Венедикта Ерофеева, офорты на эту же тему. И все — рукой, а не компьютером созданное. Рукой, равно владеющей как пространством сцены, так и плоскостью листа. И звуковое сопровождение было тоже не электронным, как во многих павильонах, а рукотворным. Дело в том, что в инсталляцию Мессерера входила ветряная мельница, лопасти которой были составлены из хорошо послуживших конторских счетов. При вращении крыльев деревянные костяшки счетов, ниспадая, издавали некое странное пощелкивание…
И еще одна Специальная серебряная медаль была присуждена Словакии за то, что всю свою экспозиционную площадь она отдала показу творчества очень талантливого и безвременно ушедшего художника Алеса Вотавы.
Архитекторы, как всегда, демонстрировали реализованные проекты последних лет. Российский авторский коллектив тоже получил Почетный диплом за проект комплекса зданий «Школы современного искусства» на Сретенке. Строят сегодня театров и многофункциональных объектов культуры очень много. Но и разрушают тоже. Когда шла война на Балканах, страшное впечатление производили фотографии разрушений в Дубровнике, показанные на ПК. Сегодня чехи представили цикл фотографий тех бедствий, которые принесены не войной, а природой, наводнением прошлого года. Затопленные зрительные залы пражских театров, где из воды торчат только спинки кресел, перевернутые рояли, плавающие в фойе листы партитур, резиновая лодка, поднятая водой на уровень балкона… Жизнь, ведь она посильнее и пострашнее любой сценографии, хотя, думаю, эти снимки станут стимулами каких-то сценографических решений. Как-то принято теперь искать источник вдохновения в сфере чужих несчастий…
Отгремела, отыграла Пражская Квадриеннале — десятая по счету и первая в ХХI веке. И каков же «сухой осадок»? Похоже, что та самая бочка, действительно, заполнена до отказа и на самом деле перевернулась, высыпав огромный ворох когда-то новых идей, концепций, открытий. Бери любое и копай вглубь. Авось и сам что-то новое отроешь.
Июнь 2003 г.








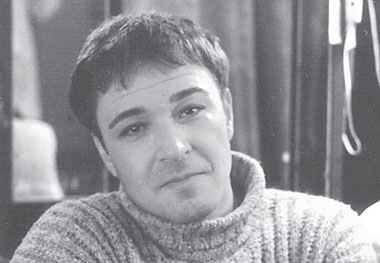

















комментарии