В. Шекспир. «Сон в летнюю ночь».
Театр им. В. Ф. Комиссаржевской.
Режиссер Александр Морфов,
художник Тино Светозарев
…Бег, быстрый бег, переход на шаг, остановка в центре сцены, эпизод: он, она, я тебя люблю, а я тебя нет, уходи, не уйду, снова — бег, кружение, бег, другая пара. Мы знаем их имена, мы уже почти поняли, кто кого любит. У них странный язык, они, верно, чужеземцы. Хотя одеты почти как наши…
— Сядьте, это всего лишь Шекспир.
— О чем они сейчас там говорят? Я не разберу. Столько греческих имен…
— Неважно, видите: вот он любит ту, но сейчас бежит за этой.
— Как интересно, а почему?
— Ему брызнули в глаза из флакончика…
— Еще интереснее, это что же за трава такая, во флакончике???
— Этот, как его… ну, в общем, волшебный сок.
— А… так это всего лишь сказка, условность, поэзия…
Иногда полезно со стороны, «неискушенным взглядом» посмотреть на происходящее, разрешить себе недоумение, «незнание», не принять однажды условность, которую навязывает режиссер: «ЭТО СКАЗКА, ВОЛШЕБНЫЙ СОК, ПОЭТОМУ ОН ОТКРЫЛ ГЛАЗА И ПОЛЮБИЛ ДРУГУЮ…» Но почему? «Так у автора написано». Не так, я хочу понять: как это возможно, почему так бывает — открыл глаза и полюбил другую. Слишком много вопросов, не растворяющихся после финального аккорда. Тщетно, тщетно брызгал трудолюбивый Пэк из своего флакончика, до меня, сидящей в седьмом ряду справа, не долетели брызги волшебного напитка.

В начале разговора о «Сне в летнюю ночь» Александра Морфова позволю себе процитировать одно полюбившееся мне высказывание Брехта: «Что позволяет классическим пьесам сохранять жизненность? Способ их употребления — даже если это употребление граничит со злоупотреблением. В школе из них выдавливается мораль; в театрах они служат средством возвышения для тщеславных актеров, для честолюбивых гофмаршалов, для корыстолюбивых спекулянтов вечерними развлечениями. Их грабят и кастрируют: вот почему они продолжают существовать. Даже если их „только чтут“, это способствует их оживлению; ибо не может человек что-нибудь чтить, не сохраняя для самого себя даже искаженных последствий этого почитания. Одним словом, театры губят классические пьесы и тем самым их спасают, ибо живет только то, во что мы вдыхаем жизнь».
Цитата эта взята неспроста, поскольку здесь зафиксирована не только оппозиция современный театр — классическая пьеса, но и оппозиция публика и классика, что в размышлениях о спектакле Морфова представляется чрезвычайно важной темой.
В самом деле, живем мы в интереснейшее и парадоксальное время — из коллективной памяти исчезают не только факты новейшей истории, но и классические сюжеты, а уж сюжет «Сна в летнюю ночь» и культурная публика с трудом вспомнит. Всем известно, что комедия, но вот сюжет… Что делать сегодня с шекспировской многословной пьесой в театре, куда публика приходит развлечься? Как удержать зрителя на этом тексте, где в каждой строчке имена греческих героев и божеств? Да и вообще — пьеса в стихах… для кого? Но премьерный спектакль, лето, аншлаг. Публика подобралась понимающая, радостно встречала шутки смехом и яростно аплодировала на поклонах.
Итак, чему же радовалась публика?
Александр Морфов, кажется, с годами стал все лучше понимать публику театра им. Комиссаржевской и научился сопоставлять материал с уровнем или, если хотите, требованиями этой публики. Так странно: дебютировав несколько лет назад на сцене Комиссаржевки неистовой «Бурей», он стал джокером, которого удачно достал из рукава художественный руководитель театра. Нет, театр Комиссаржевской не перешел в статус экспериментальной площадки, но спектакли Морфова стали его «изюмом» и «инжиром», их одинаково любят и ценят широкая публика и уставшие от жизни театралы. И может показаться, что спустя несколько лет после премьерной «Бури» режиссер Морфов как будто отменяет прошедшие годы и ставит спектакль, идеально соответствующий лекалам театра, ориентированного на досуг публики. Той публики, которая хочет комфорта, прямых, легких эмоций: посмеяться, умилиться, развлечься, вздохнуть с замиранием, выпить коньяку в антракте — в общем, провести время, не слишком спотыкаясь на греческих именах и условностях шекспировского мира и не беря в голову проблемы шекспировского же космоса.
Спектакль начинается задолго до того, как в зале гаснет свет: идешь в зал, а там тебя встречает русоволосый молодой человек с чашечкой кофе в руках, артист Александр Ронис, в своем уже похоже что амплуа вольного сказочника, ведущий неспешный монолог о Вере Федоровне, о люстрах да пилястрах, все о театрах да о театрах… Ой, вот оно, думаешь, открытая композиция в шекспировском театре, самосознание театра — как интересно! Да и первая сцена обещает: в зале гаснет свет, сбоку в щель приоткрытой двери проталкивается, спотыкаясь и шипя, орда проходимцев во главе с маленьким настырным человечком, забирается на сцену, и вожак, падая на колени, начинает целовать ее, священный Грааль артиста. Сцена, объясняет он своим приятелям, так надо. И все бросаются целовать подмостки.
Эти бродяги-актеры все три с половиной часа будут репетировать представление к бракосочетанию Тесея и Ипполиты, веселя и радуя почтенную публику в зале. И сразу почти понятно: вот тема этого спектакля, главная и основная, — Театр как средоточие чистоты, страстей, подлинного искусства, способного вдохнуть огонь в глаза горького пропойцы или увлечь трепетную блондинку. В общем, искусство вечно и мы, артисты и режиссеры, принадлежим искусству всей душой. А вот вторая линия, та, любовная, — ну что поделать, ну раз Шекспир написал, придется играть, давайте-ка мы ее пробежим. А потом бедный театральный рецензент в свою очередь вздохнет — как запутанно писал этот Шекспир, давайте-ка я по-быстрому расскажу, кто там кого любил…
Что же мы имеем на выходе? Общее время спектакля — 3,5 часа. Четкое разделение действия на две темы, имеющие лишь формальные, запрограммированные сюжетом точки сближения. Основная тема — театр. Побочная тема, вбирающая множество других, — месть лесного бога. Жанр — будто бы сказка. Такой своеобразный анамнез спектакля необходим, чтобы поговорить о режиссуре Александра Морфова более подробно.
Дело в том, что о спектаклях А. Морфова так и тянет писать главами, отбивая: время, движение, сюжет, пространство. Еще: жест, слово, прием. Еще: жанр, публика. Еще: любимые позы, мысли, типы… Очевидно, происходит это потому, что режиссер владеет технологией и грамотно распоряжается средствами театра, точнее — делает это как фокусник, зная, что и как работает.
Ну, тогда и начнем.
Александр Морфов не певец любовных драм. Это только кажется, что в его спектаклях много любви. Нет, получите только то, что отпущено по сюжету, да и этот материал решается больше как половые акты. Герой-одиночка — наиболее любимый, органичный и понятный ему персонаж. Если будет герой в спектакле — будет философия, будет авторский мир. Симфонизм, «группа лиц без центра» не его конек. «Буря», «Дон Жуан», «Ваал» — везде протагонист, везде герой, управляющий энергиями жизни, на нем сосредоточен взгляд режиссера, к нему стянуты все линии. В «Сне в летнюю ночь» такого не случилось: многополярность шекспировской комедии не дала точки опоры, слишком много линий, которые закольцованы и соединены друг с другом прихотливой фантазией драматурга: вот театральная труппа с маленьким тираном-режиссером во главе, вот рассказчик, всю историю начинающий, вот Пэк, ее меняющий, вот мстящий Оберон, а вот влюбленные пары, снующие друг за другом по темному лесу.
Подозреваю, что Театр вообще является сверхсюжетом для Александра Морфова. О чем бы ни была та или иная история, кто бы ни умирал или ни любил у него на сцене, режиссер все время говорит нам, зрителям: посмотрите, как велик, как прекрасен, как красив Театр. Я могу обмануть вас, я могу увлечь вас, я могу рассмешить вас. И «Сон в летнюю ночь», представляется, в идеале должен был бы походить на круг, в который вписаны инь и янь, черное и белое, переходящие друг в друга материи, из которых слеплен мир-театр: ремесленники, созидающие театр, и персонажи, герои, живущие в волшебном мире, созданном тем самым театральным инструментом, который держат в руках ремесленники. И этот театральный инструмент, по идее, и должен был высечь живую искру из шекспировской волшебной истории о двух влюбленных парах, заставить существовать всех этих эльфов, лесных божков, наполнить сюжет подлинной внутренней страстью, развить отношения, провести героев через морок ночи, через карнавал, через порок, желание к обретению чистой, подлинной любви. Не получается. Именно что пересказывается, именно что волшебная сказка, «утренник для взрослых» с громокипящим лесным богом и марионеточными влюбленными героями.
Актерам, играющим влюбленных (Анна Вартаньян — Гермия, Родион Приходько — Лизандр, Евгения Игумнова — Елена, Евгений Иванов — Деметрий), с самого начала предложена яркая, легко считываемая характерность. Гермия — мальчишка-сорванец, с взъерошенными волосами, в которые вплетена хипповская ленточка, с угловатыми пацанскими движениями, с резким голосом, но без юного обаяния и грации. Если честно, и не понять, почему в нее влюблены сразу двое парней: Деметрий, молодой красавец-плейбой, и Лизандр, в пару Гермии такой же паренек из соседнего двора в модных нынче широких джинсах, шапочке по самые брови, с расхлябанной пластикой, задевающий и сносящий все на своем пути. И красавица Елена, с косой, в белом платьице, в туфельках и трогательных белых носочках, — вечно страдающая, плачущая, несчастная. Любовь здесь неожиданно оказывается той же условностью, что и волшебный сок: «так у автора написано». Она не оправдана, не явлена в чем-нибудь ином, кроме огромных кирпичей текста, которые вываливают друг на друга эти одетые в современные одежды ребята. Почему они говорят так многословно, так речитативно? Так «не по-нашему»? Они же наши, с соседней улицы.
Дело, конечно, не в том, что Шекспир писал большие пьесы. Несколько лет назад на фестивале «Балтийский дом» «Сон в летнюю ночь» Оскараса Коршуноваса был сыгран за два часа так, что доски в руках молодых актеров тлели от разлитого в воздухе эротизма. Тела и деревянные доски — все, что понадобилось режиссеру, чтобы глотки порой пересыхали от жажды, а восторг от театрального пиршества взрывал мозг. Понимаю, что не совсем корректно сравнивать две постановки, но тут важен метод. Что делает режиссер Морфов с взаимоотношениями героев? Он, как и Коршуновас, пытается проявить их через физическое действие: геометрически размеренный пробег из одной кулисы в другую. Симуляция интенсивности чувств и страстей, владеющих героями, — так режиссер «сжимает» время: якобы у героев его очень мало, на все про все одна майская ночь. Много — им еще бегать и бегать три с половиной часа туда и обратно. Они и носятся друг за другом цепочкой: Гермия, Лизандр, Деметрий, Елена. По ходу Лизандр пытается Гермию спровоцировать на секс, а Деметрий еле-еле удерживается, чтобы не лишить невинности Елену. Любовь пропевается ими в прямом смысле этого слова: в ритмах лучших баллад о любви. Западная эстрада царит, любовь, может, и пройдет, но эта музыка точно будет жить вечно. Свои чувства они «поют», открывая рот под фонограмму, зрители расслабляются — музыка и впрямь хороша, имитация чувств режиссеру удалась в очередной раз.
Здесь мы подбираемся к самым маленьким «кирпичикам» режиссуры Морфова: позы, физические действия, которые переходят из одного спектакля в другой и говорят сами за себя. К чему, в самом деле, километры текста про любовь, когда каждый раз одно и то же: мужчина заваливает женщину в целях совокупления. Вот Ваал, неаккуратно бросающий барышню на ринг, кажется, через бедро, Дон Жуан, утаскивающий жертву, чтобы совершить над ней физическое насилие, теперь еще и Тесей, в первые же минуты спектакля приваливающий Ипполиту к дверному косяку, чтобы на глазах у изумленной публики заняться тем самым, а там уже на подходе и Деметрий, снимающий штаны и задирающий платье Елене. «Беги, Елена, беги, а то я над тобой сейчас надругаюсь», — примерно такой текст произносит Деметрий. Но если режиссеру столь неинтересны вибрации влюбленных душ, тончайшие нити, связывающие двух людей, что же влечет его?
В спектаклях Морфова фарсовым сценам веришь больше, чем серьезному монологу. Чем дальше, тем больше очевидно, насколько он понимает и чувствует фарсовую природу театра, как сильна его страсть к актерству, комедиантству. Поэтому вполне естественно, что в этом спектакле царит «банда» работяг, пытающихся срепетировать «прежалостную комедию о весьма жестокой кончине Пирама и Фисбы». Все маски этой команды великолепны: тиран-режиссер Питер Пень (Сергей Бызгу), прекрасный пропойца Штопор в исполнении Владимира Крылова, герой-любовник Пузо — Александр Баргман с пузом и в бармалеевских усах, Мери Пень, жена режиссера, фрустрированная дамочка в шляпке, — Маргарита Бычкова, глухой Тухля — Анатолий Горин и прочие. Импровизация, попытка обнажить театральную кухню, сымитировать отношения в театральной труппе, бессмертные шутки вроде «иди, играй в моноспектакле», чудесный Иван Васильев в роли Френка Пискуна, изображающий Фисбу и спасающийся от возбужденного Пуза. Вся эта суматоха заканчивается пронзительным финалом, когда актеры все равно встают за ширму и разыгрывают жестокую кончину Пирама и Фисбы, утверждая первенство и подлинность театра. Благодарная публика практически неистовствует.
А что же с волшебной романтикой майской ночи, спросит меня читатель? Где царство волшебства, ночных желаний, сновидений? Александр Морфов не был бы собой, если бы не воспользовался возможностью пустить «ночного волшебного туману» в глаза публики. Волшебная романтика летней ночи, ее полутона, ее обещания возникают, когда на сцене появляется Пэк в исполнении Александра Рониса, рассыпающий по небу звезды и вдыхающий ночной туман, примостившись в лунном круге. Его мимолетные встречи с маленькой феей, которая бесшумно скользит по земле, его чуть усталые интонации, полные мягкой иронии и неистребимой романтики, возвращают атмосферу любовного неясного трепета, магии ночного звездного неба, укрывающего влюбленных. Жаль только, что не хватило волшебного напитка на все три с половиной часа театрального действия. И магия любви оборачивается невнятностью режиссерского решения. И оставляет меня режиссер с тем же самым вопросом: что это за штука такая, любовь? Не дает ответа.
Август 2007 г.


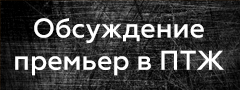



































комментарии