А.Стриндберг. «Фрекен Жюли». Театр «Балтийский дом».
Режиссер Александр Галибин, художник Эмиль Капелюш
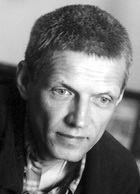
Август Стриндберг искушает русский театр уже целый век. Кажется, понятно, чем время от времени приходится он ко двору. Находится режиссура на этот сумрачный максимализм, находятся актеры на эту эмоциональную глубину… хорошо, когда находятся.
Искушать — искушает, но, наверное, никогда на воплотится совершенно. Драматическая воронка, втягивающая персонажей у Стриндберга, — у нас сколько-нибудь да теряет свою центростремительную силу. Вот и в недавнем «Отце» в БДТ драма заглавного героя отделена была словно стеклом от антагонистики. Центробежные силы явно брали верх: два успешно сыгранных параллельных сюжета!
И слава Богу, может быть. Размытый фокус, удел наших сценических Стриндбергов, возникает от родства: на сцене не подстрочник, а вольная вариация, мотивы Стриндберга оркестрованы по-новому, освоены в новом контексте.
«Фрекен Жюли» в Петербурге являлась на сцену не раз, и сегодня можно увидеть ее в нескольких вариантах. Пикантный сюжет о даме и ее слуге — и бескомпромиссная, обреченная страсть к самоосуществлению; в парадоксальном проблемном поле драмы Стриндберга легко и заблудиться, и уж во всяком случае стоит избегать прямолинейных решений. Вот на Камерной сцене МДТ (дебют Игоря Николаева, художник Елена Дмитракова) режиссер ухитрился крошечную сцену раздвинуть беспредельно — так, чтоб и быт поместился фламандско-антуанский, с настоящей печью, и фантастическое зазеркалье, смещающее пространственно-временные рамки. Но Анжелика Неволина, увы, играет именно что прямолинейно: с завидной отчетливостью вначале предстает выморочная маска истерической мужененавистницы, затем, после презентативного центрального эпизода взаимности в комнате Жана, перед нами женщина, которую бросает любовник: общее место мелодраматической ситуации, наподобие сериала. В итоге наиболее достойно в спектакле звучит тема Кристины: в игре Татьяны Рассказовой и «жанр» есть — и, главное, есть ощущение глубины, ибо «социальное» здесь преподносится не плоско, смыкается с экзистенциальным. Кристина деловита — и несуетна, притом внутренне весьма экспрессивна. Пластика, интонации этой Кристины дают ощущение экзистенциальной «тяжести»: реальный противовес и реальный вместе с тем «двойник» главной партии — если бы эта главная партия была интереснее решена.
Последний спектакль Александра Галибина называли то «нежным», то, напротив, «холодным». Похоже, режиссер сумел уловить скандинавский дух, одновременно нежный и суровый, бескомпромиссный и поэтический.
Трио стриндберговских персонажей — испытание для режиссуры, если она не хочет ограничиться одним лишь «треугольником». Александр Галибин, понятное дело, не стал ограничиваться — и развел персонажей на все три стороны. На то и новая драма: драматическое действие должно возникнуть в едином проблемном поле.
Зачин действия в руках Кристины. Журчит вода, Иванова ночь, девушка ворожит на непонятном языке, склонившись над водой…
Эх! Регина Лялейките — сама естественность, ее усердное бормотанье по-литовски — отличная находка… Но, здоровая, кровь с молоком, эта Кристина ничем не предвещает драмы. Судя по рисунку, ей бы вести в спектакле тему стихийности, мистической природности (глубоко скандинавский, гамсуновский мотив); она же эпична, здрава, и ее сон на фоне драматической сцены партнеров — крепок и безмятежен (в отличие от МДТ, где спящая Кристина — особый мотив, звучащий и смешно, и жутко).
Ручей, текущий по желобу, образует естественную раму сцены в спектакле Балтийского дома (художник Эмиль Капелюш). Журчание и блики воды таинственно стихийны, подлинно поэтичны. Фрекен Жюли входит на эту сцену без малейшей аффектации — но это выход трагической протагонистки. Она движется, вступает в диалог — но органным пунктом тянется и тянется нота великого томления героини — под стать первому выходу Федры. Эта «нота» заполняет театр и одновременно разрежает атмосферу спектакля, снимая какое бы то ни было эмпирическое толкование действия, «быт». Здесь четкий рисунок роли обеспечен кристальной чистотой трагической эмоции. Ирина Савицкова в роли Фрекен Жюли едва ли касается мотива пресловутой тяжбы «полов», и уж во всяком случае, в ее игре при всей бескомпромиссности драматического существования прямолинейность исключена.
То, что играет Ирина Савицкова, имеет большое отношение к Стриндбергу, ибо ее Фрекен Жюли пытается свести, соединить распавшиеся, разорванные сущности бытия, идеальное и физическое, достоинство личности и социальную связанность. Ее попытка максималистского самоосуществления обречена, что она трагически и осознает. Это то, за что, по-видимому, Блок и любил Августа Стриндберга, отводя от него подозрения в пошлом, обиходном варианте «женоненавистничества».
Высокий гордый образ женственности является на сцену, чтобы быть смятым и сломленным в финале, — но это не мелодрама, и уж тем более ни режиссер, ни актриса не склонны к поэтике сериала. Сравните сцену с птичкой у Неволиной и у Савицковой. У первой фрекен отобрали любимицу, и она яростно верещит. У второй — дух отлетает с убитой птицей…
Но финал и в галибинской постановке проигрывает началу. В дебютной постановке на улице Рубинштейна, мы помним, в финале остается заурядная история «соблазненной и покинутой» — и, соответственно, роль слуги Жана в треугольнике — любовник, обольститель (Игорь Черневич).
Дмитрию Воробьеву достается в трио галибинского спектакля «партерная», земная, прагматическая партия, с которой он, конечно же, справляется запросто, насыщая роль современными аллюзиями, — и, очевидно, без большого воодушевления. Спектакль разметан центробежно, повторимся, на три стороны, и к финалу это сказывается не лучшим образом. Чтобы действие «сработало», протагонистка должна бы какими-то гранями задевать партнеров, а они существуют уж совсем мимо ее поля, в иных, эмпирических плоскостях, в иной акустике — не в той трагически разреженной, что создает галибинская Фрекен Жюли.
Январь 2001 г.











Комментарии (0)