Петербург конца XX века не очень охотно заглядывает в будущее, неумолимо приближающееся третье тысячелетие мало обнадеживает. «Прекрасное далеко», развернувшись на 180 градусов, оказалось в прошлом, стремясь дотянуться до которого, мы надеемся получить ответы на нынешние вопросы и, наконец-то, понять и обрести себя.
Кстати, и в названии ежегодного фестиваля «От авангарда до наших дней» (давшего широкой публике возможность увидеть Вертепный театр) — та же парадоксальность сегодняшней временной ориентации. Как у Алисы в Зазеркалье, авангард — это почти столетие назад, а сейчас — только «наши дни».
Наверное, не случайно, что в рамках первого фестиваля (прошедшего весной 1993 года) едва ли не самым авангардным оказался вертеп — двухъярусный ящик, в котором разыгрывается рождественская евангельская история о рождении Христа, поклонении ему пастухов, волхвов и царей, о реакции на это событие Ирода.
Как все давно забытое, петербургский Вертепный театр — явление новое. Вывести его из небытия взялась группа единомышленников, во главе которой Елена Васильева и Алексей Стрельников, давно мечтавшие донести до сегодняшнего горожанина искусство его предшественников. В первую очередь — культуру бытового пения, музицирования, домашних театральных увлечений, характерных для жизни петербуржцев XVIII столетия.
Когда идеей загорелась молодежь (Н. Бондарь, Е. Борисенко, Н. Киселева, Н. Кожанова, А. Москаленко, В. Стрельников, О. Шульга), появился тот театр, который более чем успешно выступил в старинном Зубовском особняке (Исаакиевская пл., 5) с вертепной «Притчей об Ироде», где кукольное действо идет в сопровождении песнопений, модных когда-то в молодом Санкт-Петербурге.
Актуальность представления, сюжет которого и есть начало нашей эры, длящейся, как известно, вот уже почти две тысячи лет — что это: чудо или закономерность, мудрость или полная безнадега? Не знаю. Каждый волен судить по-своему.
Еще до начала спектакля поразила вписанность вертепного ящика в интерьер парадной лестничной площадки Института истории искусств. Заняв свое место в дверном проеме входа на выставку музыкальных инструментов, этот мини-театр как бы соединил времена: по дороге из средневековья и фольклорной культуры задержался на пороге классического XVIII века, чтобы шагнуть далее, вниз по ступенькам Зубовского дома в Петербург 1993 года. Выйдя когда-то за пределы храма и обретя, подобно многим народным представлениям, бродячий характер (не зритель шел смотреть, а с вертепом ходили из дома в дом), рождественская драма всякий раз сталкивала эпохи, упрямо возвращая участников своего действа («показывателей» и смотрящих) к первоначалу, к непреходящей теме добра и зла, жизни и смерти, к позиции Человека, его ответственности или бессилию в этом извечном споре.
Камерное вертепное зрелище настолько просто и наивно, что не в состоянии скрыть глубокий смысл и вещую притчевость разыгрываемых событий, или, другими словами, настолько монументально и многозначно в плане содержания, что не нуждается в искусственном усложнении формы. Нынче сюжет о рождении Спасителя всем хорошо известен, так что создатели и исполнители «Притчи об Ироде» могли позволить себе не оживлять музейную реликвию, а умно и талантливо балансируя на грани исторической, этнографической точности и современного прочтения народной драмы, с некоторой долей изыска и остранения представить публике настоящий сегодняшний театр. Распахивая по ходу спектакля двери обоих этажей вертепа, хор лишь приоткрывал тайну его, показывая, сколь она глубока, и убеждая, насколько необходимо нам её узреть и понять Смысл.
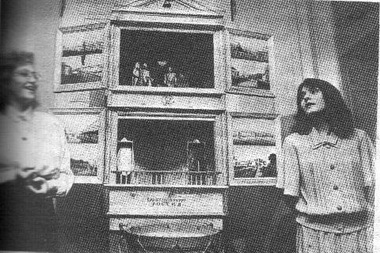

Итак, двухэтажный ящик-театр с подчеркнуто петербургским обликом (таким его придумал и осуществил Алексей Стрельников) и куклами, чуть напоминающими начало века и «мирискуссническое» отношение к прошлому, начинал своёепредставление в типично петербургском особняке XVIII столетия.
Спектакль не имел четко обозначенного начала, он продолжал, повторял то, чему уже почти две тысячи лет. Дверцы обоих ярусов были открыты и за негромким мелодичным перезвоном возникали слова, будто давным-давно начатый разговор. Из темноты верхнего яруса появилась фигурка светловолосого юноши в ярко-красном плаще — это Жизнь. За ним, как положено, не торопясь «вплыла» Смерть с косой. Языком высокой средневековой книжности они продолжали вести разговор о смысле бытия, о добре и зле, о Человеке и его предназначении. Исчерпав на сегодня аргументы, фигурки уходили, растворяясь в заднике яруса, напоминая модные двести лет назад механические часы и игрушки. И в тот момент, когда Смерть поворачивалась спиной к публике, звучало неожиданное, насмешливое «Щеголик хлопочет, он жениться хочет» — шутливый кант середины XVII века. Так завершался Пролог.
Далее разворачивался сюжет канонической рождественской драмы «Царь Ирод», где куклы — пастухи, волхвы, Звездочет, Архангел, Ирод, Рахиль и другие — действуют, поддерживаемые, комментируемые великолепным «живым», человеческим ансамблем, исполняющим сложнейшие петербургские канты позапрошлого столетия. Кроме упомянутого «Щеголика», хор одаривал зрителей в музыкальном антракте двумя пародийными кантами — «На горах Кронштадтских» и «Худая жена», о существовании коих знают редкие специалисты, к которым относится Елена Васильева, давшая забытым песенным шедеврам вторую жизнь. Канты давали возможность Вадиму Стрельникову — главному и единственному кукловоду — сделать необходимые перестановки, вывести на сцену нужных персонажей.
С последними звуками «Худой жены» растворялись дверцы нижнего яруса, и взгляду представал «Пир во дворце Ирода» — эпизод в красно-золотой гамме. Пока «в куклах» намеренно выдерживался стоп-кадр, хор выводил первые музыкальные фразы канта «Попейте, братцы, попейте».
Второй акт шел в другом настроении, без благости и радостно-наивного озорства. Неизбежность выбора и ответственность за него — смысловая доминанта этой части драмы. Звучал трагический кант «Горе мне, грешнику», но Ирод его не слышал, и вскоре появлялись Черт и Смерть, чтобы забрать жестокого царя Иудейского и поставить точку в сюжете, но не в спектакле. «Взирай с прилежанием, смертный человеке, како век твой проходит» — под этот духовный стих в последний раз открывались створки верхнего этажа вертепа, и Юноша в красном, споривший в Прологе со Смертью, вновь был перед нами, но теперь в окружении Ангела и Черта.
Три основных цвета — красный, черный и белый; три главных акцента — жизнь, грех и добродетель; и Человек (каждый из нас) на перепутье между Добром и Злом. Проблемы, сюжет, герои — все старо, как мир, и все злободневно, как всегда. Правда, на сей раз высокопрофессионально и удивительно интересно, что в «наши дни» встречается не часто (во всяком случае, в театральном кукольном и фольклорном мире), но что было присуще тому авангарду начала века с его увлечением народным творчеством и кукольным искусством.
Канты — авангард XVIII века, поры, что заложила основы собственно Петербургской культуры с ее ни на что не похожим симбиозом правил и исключений, законов и нарушений их, самого нового и заезженного старого, штампов и «измов». Эта фраза — мостик ко второй половине повествования о петербургском Вертепном театре.
Будто продолжая существовать в вертепном стиле, творцы и исполнители «Притчи об Ироде», отыграв евангельскую часть драмы в Зубовском особняке, перешли ко второй, светской, части, переместившись в пространстве (в отличие от кукол, не по вертикали, а по горизонтали) в соседнее здание Конногвардейского манежа (Центральный Выставочный Зал) на экспозицию выставки «От авангарда до наших дней».
В русской фольклорной культуре существует традиция опевания молодоженов, гостей, подарков. Своеобразным модерном петровского времени были виватные канты, чаще всего, разумеется, звучавшие в Петербурге первой половины XVIII столетия. Молодой ансамбль, владеющий в совершенстве разными манерами аутентичного фольклорного битового городского пения, рискнул объединить городской кант и романс с живописью, представленной на выставке, выстроив некое особое действо с внутренней логикой и эмоциональной линией. Надо признать, эксперимент удался. Вообще-то слово «эксперимент» не точно отражает ситуацию. Что произошло в Maнеже 21 марта 1993 г. не повторится, потому что неповторимы и нетиражируемы вдохновение и творческий порыв, вызванные удачным сложением компонентов, которые вряд ли когда-нибудь так же соединятся в безумном калейдоскопе наших будней, судеб, проблем и настроений.
Пересказать, как, что и почему пели молодые люди в Манеже, очень трудно, так что ограничусь лишь несколькими примерами.
«Три девушки» Казимира Малевича. Яркая лапидарная живопись оказалась созвучной мелодике крестьянской баллады. Эффект удивительный и непонятный. Как необъяснимо разумом, но, безусловно, принимается на эмоциональном уровне соединение «Формулы космоса» П. Филонова с вибрирующей фактурой весеннего брянского хоровода «Сама Мати Пречистая». Потрясающая по тексту и напряженности звучания баллада «Чёрный ворон», спетая у картины с эпизодом из гражданской войны, заставила увидеть и прочувствовать ужас братоубийственной резни, вовсе не подразумеваемый художником; и соцреалистическая романтика, спетая таким образом, обернулась ложью и грехом. Старообрядческий духовный стих «Горе мне великое» как нельзя более кстати подошел портрету молодого Сталина кисти И. Бродского. Наконец, в финале, у композиции Виталия Левакова «Вожди» трагически и тревожно вопрошающе прозвучали слова покаянного канта:
Коль, неспокойны твои честь, богатство, Ветр, дым, — ничто же, все непостоянство: Цветут в един час, в другой увядают, Днесь на престоле, завтра ниспадают… Едина убо мысль бедным да будет, Как судия в тот день страшный пребудет: Спросят нас, бедных, там вскоре ответа, Почто теряли всуе наши лета?
Добавить к этому нечего.
Тем, кто оказался в это время в Манеже, крупно повезло…









Комментарии (0)