Прошедшей зимой Анатолий Праудин обнародовал для профессионалов Петербурга работу, к этому времени уже показанную не только на фестивале «Пространство режиссуры» (см. «ПТЖ» № 54), но и на режиссерской лаборатории под руководством А. Шапиро, где разбирался шекспировский «Отелло». Недавно праудинцы сыграли свою «Работу актера над собой» в Москве, а мы идем «по следам» зимнего показа, вызвавшего много кулуарных обсуждений. На самом деле была совершена одна ошибка: лабораторные штудии Праудина обязаны провоцировать обсуждение прямо вслед за показом, тогда все становится на свои места. Лишенная слова, питерская критика долго не могла успокоиться, обсуждая работу…
У меня давний и стойкий интерес к обоим, и к Станиславскому и к Праудину. Только порознь: мне казалось, что Праудин не вполне станиславского корня — и по школе Музиля, и по многим спектаклям, чье обаяние и смысл извлекались не из «жизни человеческого духа». Видел я, правда, и другие, где именно движения души персонажей становились первостепенными. Действо, которое я шел смотреть, получало, таким образом, еще и дополнительную интригу: а вдруг Праудин станет выяснять отношения со Станиславским? Ко всему я не знал, чем оно вообще будет — спектаклем или на самом деле этюдами, а для меня это вещи несовместные. Хотя бы потому, что спектакль играют для меня, а этюды делают для себя.
Я уверен, что Праудин не лукавил, не собирался выдавать одно за другое. Он искренне полагал, что театральная аудитория (а я оказался в такой) без труда примет условия игры и легкий налет режиссуры не испортит впечатления от этюдов, а этюды, честно и с интересом сделанные хорошими артистами, будут сами по себе интересны.
Со мной, по крайней мере, это не получилось: я видел игру в этюды, то есть спектакль. Косвенно об этом свидетельствовало, прежде всего, то, что в первой части на Елагина, менее (так показалось) внедренного в учебный процесс, смотреть мне было интересней, чем на Кабанова, самоотверженно делавшего этюд с несуществующими предметами. Объяснил себе просто: Елагин все-таки играл, пусть и роль ученика, то есть был в том мире, где ему и всем им карты в руки. Во-вторых, там параллельно разворачивалась история купания несчастного Сёмы и сюжет у камина с деньгами и идиотом, а внутри этого сюжета тоже была параллельность: разговор по телефону смонтирован со сжиганием денег. Причем владелец больших капиталов Кабанов зачем-то просил друзей одолжить ему деньги. Очевидно, что тема разговора вполне случайна: он ушел единственно для того, чтобы Елагин успел набезобразничать. В давние времена, когда на телевидении спектакли шли живьем, такое называлось сценой-ширмой. Сосредоточиться на учебном действовании в подобных условиях я оказался не в силах — все силы ушли на драматическое действие.
Само собой, злостный край сознания «отметил», что с пресловутыми воображаемыми предметами в заведомо лабораторном пространстве все участники действовали весьма приблизительно. Но это не было важно.
Когда во второй части перешли к «этюдам на человеческие отношения», то есть стало ближе к театру, тогда происходящее на сцене и мне стало ближе. Вдобавок там и режиссура забыла, что ее нет: повторяющиеся армейский мотив, «восточная музыка» и позывные «Ассоль» давали сюжету контрапункты, то есть драматургию. Фабула почти отсутствует, а сюжет новый, импрессионистский, что ли: сцены будто небрежно накиданы и стилизованы под этюд. И все здесь и сегодня.
В формулах знакомо, а в реальности нет. И я оказался не готов — недогадлив. Что за цифры, например, Эмилия написала на ведре? Потом умные люди объяснили, что — номер телефона. Ну добро бы только номер, так ведь не понял вещей поважней. Будущий Яго — он ведь, похоже, художник? Ничего не видит, не слышит — дай только заполнить какую-нибудь плоскость своей мазней. А Эмилия ему модель, поэтому он на ней женился. А рисует он все время Дездемону? Хорошо! Если велят помнить, что на моих глазах сейчас душевно разминается шекспировский Яго, я согласен думать, что так сосредоточенный на Дездемоне художник и впрямь захочет напомнить генералу, что убить надо не только Кассио, но и ее. А сверхсрочник Кабанов, измывающийся над бедным Яго? Когда вырастит в себе Отелло, «крови, крови…» и впрямь проговорит между делом…
Боже мой, так это же трактовка, в наличии которой покаянно признался Праудин, когда перед началом говорил со зрителями. Это ее сейчас проверяли.
Оказывается, Станиславский был помянут не всуе? Только поздний, почти безумный: актеры с режиссером и художником сочиняли не мизансцены, как ему мечталось, а пьесу. Точней, не пьесу, а сразу и вместе спектакль. Допустим, «Праотелло». Процесс его создания и стал сюжетом самостоятельной театральной драмы. Она драма, а не трагедия, она не психологическая, потому что тянется к архетипам, ну и так далее. Если так, тогда главный ее минус в том, что она не осмелилась себя узнать.
Юрий БАРБОЙ
МОЯ В ИСКУССТВЕ НАД СОБОЙ
Чудесный шутейный заголовок этой страницы — плагиат. Из новейшего студенческого спектакля. Это пародия на всех пользователей теоретического наследия Станиславского. Если бы я точно знала намерения Анатолия Праудина, то присоединила бы его эксперимент и его самого к пародии и пародистам. Тем более что традиция имеет давние корни и открыта Булгаковым.
Допустим, тайный замысел имел место. Тогда в реальности его природа как-то неявна, задача недовыполнена. Если же это не ирония, не «прикол» над доверчивым зрителем, то зачем закулисные топтания публике? Процесс не оформлен в жанр, стало быть, он для показа не приспособлен. Ну, можно выставить эскизы — много-много, а потом сразу «Явление Христа народу». Понимаем цель. Одни — не эскизы даже, а наброски, слабые контуры дурацкой мелодрамы, черт знает как возникшей в воображении Станиславского, — никуда не ведут. Правда, Праудин опыт закруглил результатом. В качестве «Явления Христа народу» во втором акте дали некую жолдаковскую версию «Отелло». Причем гораздо лучше, чем у Жолдака. «Сила» и преимущества праудинской версии в ее ясности, инфантильно-психоаналитическом вскрытии трагедии. Мол, вся троица знакома друг с другом с детского садика и первых ложек молочной кашки, но условия и натуры не равны. Яго — талантливый и забитый мальчуган, а Отелло — ординарный баловень судьбы и обстоятельств. Сравнительный анализ злодея (мнимого) и героя (мнимого) переворачивает (ради смеха?) знаки Шекспира. Многие и не раз пытались так же перевернуть с ног на голову его указания — вообще-то не поддается. Плохиш Отелло и Кибальчиш Яго напомнили мне еще одну соревновательную историю из жизни — Маккартни и Леннон. Второй так пострадал в детстве, что хулиганил беспробудно, но был гением. А первый, как бы положительный буржуй, прославился скупостью и предательствами. Но тоже, оказывается, был гением. В общем, надеюсь, что Праудин шутил. «Все это шутка, отравление в шутку», — утешал Гамлет Клавдия. А сам готовил ему мышеловку.
Елена ГОРФУНКЕЛЬ
Тоска по тренингу, по актерскому станку ощущается всегда, но ничего похожего на то, что требуется, человечество еще не изобрело. Я сам не смог бы каждый день заниматься именно таким тренингом, который был показан Экспериментальной сценой А. А. Праудина. Еще в институте у меня было большое сомнение, стоит ли так много времени тратить на упражнения на ПФД. Смысл вроде бы понятен: это первая ступенька в освоении актерского мастерства. Необходима вера в предлагаемые обстоятельства, когда ты существуешь на сцене один и работаешь с воображаемыми предметами. Но почему-то были дикие ломки: так не хотелось выходить на сцену!.. Нежелание объяснялось бессмысленностью этих упражнений, они воспринимались как тяжелая повинность, и не только мною — энтузиастов на курсе не было. Может, потому что я учился на режиссуре. В дальнейшей практике я встречался иногда с необходимостью «освежить» память физических действий — например, в «Трехгрошовой опере» мы работали с воображаемыми предметами, с воображаемой едой… И поэтому я решил — будь я педагогом, я бы все-таки включил эти занятия в процесс обучения. Как навык, как один из способов действования, который может быть потом применен, ПФД нужно освоить. Таким тренингом стоит усиленно заниматься хотя бы семестр. Но каждый день?! Я бы не смог… Снимаю шляпу!
И все же: в первой части, названной «Сжигание денег», я не понял, что именно актеры тренировали. Ведь традиционно этюд на ПФД требует нескольких вещей: аккуратности и точности взаимодействия с невидимым предметом (чтобы пальцы не гуляли, чтобы ощущалась форма, вес и фактура вещи, чтобы мышцы правильно работали…). Происходит настраивание всего актерского аппарата, кроме того, пробуждается воображение, тренируется внимание (и актеры держат во внимании несколько объектов, помнят, где находятся все предметы, и т. д.). Хорошо, когда в этюде есть процесс: чем началось — чем кончилось. Что-то должно случиться, нет смысла часами просто вдевать воображаемую нитку в воображаемую иголку… Вот по этому счету показ меня не очень убедил. Все было абстрактно, все вообще, как говорил Станиславский. Разжигание вообще! Я не понял, что мешало: К. С. предлагал, чтобы была череда препятствий, мешающих разжечь огонь (скажем, спички отсырели). Во время преодоления включается нервная система: хочется — не получается, хочу достичь цели — не достигаю… Если все комфортно, все легко, ничего не мешает — тогда это не предмет этюда. Нет конфликта, не над чем работать.
Еще у нас было категорически запрещено произносить текст во время этюда. Я думаю, текст, если без него никак не обойтись, должен быть минимальным, опорным. Здесь другой принцип рождения слова: горы текста, иллюстрирующего действия и даже комментирующего их.
Меня не убедила эмоциональная реакция на смерть ребенка (похоже, он выжил, но сначала это непонятно). Либо это должны быть какие-то очень яркие отклики с большими нервными затратами, либо — реальное действие: стараться спасти, делать искусственное дыхание, реанимировать… Мне не хватило ни эмоционального проживания, ни продуктивности действий, чтобы исчерпан был весь арсенал и весь спектр поведения как спасающего, так и спасаемого. Получилось ни то ни се. Что пробовали, что разминали, чему учились — непонятно.
Целесообразное и продуктивное действие возникает, когда намечена цель (которая может разрушаться помехами), а мы всеми средствами ее добиваемся, чтобы действие было доведено до пика. Тогда мы научимся полностью включаться в процесс, погружаться и забывать о зале.
Здесь был скорее показ, формальность, обозначение. Я увидел как раз то, что так не нравилось Станиславскому: всё вообще. Вообще я очень аккуратен с «дверью», с «ящичком», вообще разжигаю, вообще оцениваю гибель ребенка… Не было конкретности. Была другая конкретность. Партнерского общения, взаимоотношений «за этюдом».
Актер, игравший олигофрена, наверное, делал это убедительно, правдоподобно, но это было мало сценично. Правда, публика была особая, посвященная, поэтому такие жесткие требования, может быть, предъявлять не стоит. И все же: надо ли на суд зрителей выносить историю болезни? Я в этом не уверен. Болезнь не может быть целью игры. Лучше не болезнь играть, а преодоление ее. Тогда проявятся ярче и сама болезнь, и твоя воля. Как он нашел красивые бумажки, как он заинтересовался, как ему трудно было их достать, положить в печку — и как на него подействовало то, что они начали гореть… Я должен понять счастье этого человека — вместе с ним взлететь, чтобы потом упасть. Здесь, по-моему, не было выхода за ситуацию… Например, в спектаклях Небольшого драматического театра, когда возникают моменты, в которых можно усмотреть патологию, всегда есть отстранение, есть ирония, есть интересный образный выход. Нужно стремиться оттолкнуться от земли и пойти к каким-то обобщениям.
Если в учебных этюдах этого трудно достичь, то в актерских этюдах это просто необходимо. Вот тогда это станок, тогда это на каждый день.
Вторая часть — этюды на биографию Отелло, Яго и Эмилии. Я никак не мог связать этот роман жизни в картинках, сам по себе интересный, с трагедией Шекспира! Помню, когда мне пришлось играть шекспировского персонажа, я не придумывал его биографию, написал на двух страницах список выразительных средств, особенностей, которые могут быть у сэра Тоби: чихает, храпит, чешется, шмыгает, шепелявит, — а потом увязывал в один образ. Я сравнивал разные переводы «Двенадцатой ночи» и выбирал самые сальные и сочные выражения (скажем, не «заносчивый негодяй», а «чванная скотина»). Но это мой метод. И все же я не уверен, что шекспировским персонажам надо сочинять конкретную историю детства и юности, — там другая конкретность, это обобщенные образы. Я не смог убедиться в необходимости именно этих этюдов.
Когда в финале актеры вышли на текст Шекспира, они стали играть нечто противоположное тому, что до этого показывали в этюдах. Если разрабатывается преджизнь, она должна диктовать нам саму жизнь, «там», в спектакле. И мы должны существовать так же плотно, конкретно, подробно (образно, если получится). Понимать, что, про что и зачем мы делаем. Здесь результат отвечал не на те вопросы. Казалось, что природа поиска другая, другая природа чувств. Я не увидел связи между частями, мотивов поведения шекспировских героев в детсадовских истоках. Задача была — разъяснить себе и зрителям, что все комплексы — оттуда, история взаимоотношений — оттуда. А здесь все было содержательно, придумано и сыграно с фантазией, но — само по себе.
Я думаю, это не универсальный тренинг. Но если это какая-то внутренняя школа Праудина, если это нужно ему и его актерам, если в этом они находят пользу и удовольствие, тогда это не только не бессмысленно, это достойно похвалы и приветствия. Я сам после показа не захотел взять такой тренинг на вооружение, у меня есть какие-то свои механизмы, чтобы войти в нужное состояние. Пожалуй, нам всем нужны тренинги технические (по речи обязательно). А это тренинг творческий — он имеет отношение к спектаклю, который репетируется.
Может быть, за этим стоит нечто большее, чем мы увидели. Доходят слухи о следующей работе Экспериментальной сцены — постановке «Вишневого сада» А. Чехова по М. Чехову, о том, как скрупулезно они осваивают этот метод, ведут дневники репетиций… Здорово, что вполне зрелые мастера продолжают совершенствоваться в профессии. Это очень серьезно и вызывает восхищение. Для моей актерской кухни этот тренинг не пригодился, но это только мое личное восприятие. А у них там даже не кухня, а именно целая лаборатория — поэтому дай им Бог сил и терпения.
Сергей БАРКОВСКИЙ
«ОПЫТЫ. ПРАУДИН»
Учебная (наверное, от слова «учебник») работа Экспериментальной сцены Анатолия Праудина и предназначена, и не предназначена для просмотра. Здесь есть некое лукавство — с одной стороны, зрителю предлагается представление под названием «Работа актера над собой», а с другой стороны, очевидно, что это зрелище — лабораторная работа, практическая часть, опыт. Как на уроке физики, когда школьники ставят опыт с силой электрического тока, только урок «открытый» — и за опытом, за тем, случится ли волшебство — появятся ли голубые разряды электричества на поверхности опытного аппарата, — следят еще две сотни глаз. «Электрические разряды» в данном случае — волшебство театра, чудо зрительского сопереживания, а учебник физики — хрестоматийный труд К. С. Станиславского «Работа актера над собой».
«Лаборанты» — Александр Кабанов, Алла Еминцева и Юрий Елагин — в первой части спектакля разыгрывают в пустой коробке сцены этюд «Сжигание денег», а во второй — сочиняют досценическую биографию персонажей пьесы «Отелло» — самого Отелло, Яго и Эмилии.
Весь первый эпизод построен как этюды на ПФД: вот Кабанов подробно, даже слишком подробно, описывает несуществующую входную дверь в квартиру со всеми выступами и щербиночками, с вниманием к каждой царапине на ней. Вот Еминцева возится с невидимым ребенком — надевает на него колготки и галстучек, кормит кашей и водит за руку по невидимой комнате несуществующей квартиры. Всё это азы актерской профессии, первый курс. Но здесь важен ракурс, в котором подан этот эпизод, — ни на секунду не получается отделаться от мысли, что взрослые люди взялись всерьез лепить куличики в песочнице, запаслись формочками, лопатками и ведерками и еле-еле сдерживают ироничные улыбки. Актеры Праудина — не студенты-первокурсники, у них не то чтобы не получается всерьез жонглировать воображаемыми мячиками, кажется, что у них и нет такой задачи: принимать все за чистую монету. Какова тогда задача? Поставить опыт проживания сценической жизни по Станиславскому? Тогда приходится констатировать, что волшебства не случилось — в пустом пространстве сцены не возникло квартиры, в которой дурачок сжигает деньги, а младенец тонет в ванне. Все осталось в воображаемой реальности, и, словно констатируя сценическую необоснованность, абсурдность всего произошедшего, в конце эпизода приходит в себя потерявший сознание дурачок и оживает утонувший ребенок. Условность осталась условностью и сама себя разоблачила.
Вторая часть учебной работы, «Отелло» — это все, что могло быть ДО событийного ряда пьесы: ясли, где Эмилия–Еминцева размазывает кашу по столу, а Отелло–Кабанов давится сырой печенкой для воспитания крепости духа; казарма, где Яго–Елагин создает футуристическую художественную композицию из кирзачей, вафельных полотенец и портянок, а Отелло опять воспитывает крепость духа, макая голову в цинковое ведро. Предполагается, что именно эти эпизоды определили характеры персонажей, обозначили черты, которые сыграли роковую роль в фатальном развитии событий пьесы. Кокетка Эмилия, художник Яго и стойкий оловянный солдатик Отелло — странное трио на фоне башни из гигантских кубиков, на которых нарисованы не зайчики, мишки и алфавит, а женские головки в стиле Леонардо да Винчи.
В зарисовках Анатолия Праудина на тему «Отелло» есть попытка этюдно обосновать предлагаемые черты, но нет логического объяснения, почему именно эти черты. Стройной башни из этюдов, как из кубиков, не получается, они нагромождены один на другой и оставляют ощущение легкого недоумения. Можно заниматься разгадыванием этого театрального ребуса — почему Эмилия прежде всего занята собственным отражением в глазах мужчин, почему Яго одержим почти маниакальной жаждой творчества, а Отелло с таким же сумасшедшим рвением и упорством воспитывает твердость характера. А можно обратить внимание на то, как работает театральный механизм создания образа, замешенного на крутом тесте этюдов, чем, собственно, и предлагает заниматься режиссер. Ведь это опыт, проба, эксперимент. А исход эксперимента — всегда непредсказуем.
Алиса ДМИТРИЕВА
Видимо, все дело в неправильном настрое. Когда я шла на показ «Работы актера над собой», то думала, что увижу нечто вроде открытой репетиции, мастер-класса, во время которого Анатолий Праудин будет давать актерам задания «по Станиславскому». А увидела спектакль или, вернее, два спектакля.
Мое мнение относится и к первой части показа, где был представлен рабочий процесс — подготовка и воплощение «сцены в квартире Малолетковой». Задание, пройденное не один раз и не один раз показанное зрителям, неизбежно приобрело характер ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. И когда актеры Алла Еминцева, Александр Кабанов и Юрий Елагин выходят на сцену «Аллой», «Сашей» и «Юрой», тщательно размечают пространство и показывают зрителям этих, с вашего позволения, персонажей-актеров, то между ними (актером и ролью) возникает дистанция. Иногда даже ироническая. Что совершенно немыслимо для Станиславского.
Актеры усердно, подробно разметили обстановку воображаемой квартиры: ванная комната, коридор, телефон, камин и т. д. Елагин и Кабанов довольно много времени потратили, чтобы договориться — где находится воображаемый ящик секретера и в какую сторону поворачивается ключ. Все — по Станиславскому, утверждавшему, что беспредметные «физические действия» с «пустышкой» «нужны нам для утверждения внутри артиста подлинной органической правды и веры через физическое действие» (Станиславский К. С. Работа актера над собой. М., 1989. Ч. 1. С. 249). И тут в голову критика закралось совершенно крамольное сомнение. Так ли уж цепочка мелких физических действий (поворачивание дверной ручки или крана в ванной) будит воображение и погружает актера в ситуацию? И что изменилось бы в актерском самочувствии, если бы предметы обстановки были реальными, а не воображаемыми? Ответить на эти вопросы могли бы только артисты.
Допустим, Еминцева действительно ощущала рукой тепло воды и слышала лепет «малыша», а Кабанов — чувствовал жар камина. Допустим, замученная домохозяйка и подвыпивший муж материализовались на сцене. Допустим, «горбун и идиот» был натуралистично убедителен. Допустим, ужас и отчаяние «Аллы», бьющейся над «неподвижным телом ребенка», способны исторгнуть из зрителя «верю!». Но обеспечит ли все это наше зрительское сопереживание? Был ли в зале хоть один человек, чье «каменное сердце» растопила эта сцена? Причина «бесчувствия» не в том, как это было исполнено, а в художественном качестве задания, придуманного К. С. Предполагаемый объект сопереживания — будни банальной семьи, представленные в наивном примере Станиславского, — не такая уж большая «драматургия», чтобы вызвать зрительские слезы.
Те, кто видел этот показ не один раз, утверждали, что он всегда проходит по-разному, импровизационно. В одном из показов (то ли в Перми, то ли в Египте) не было даже топки камина. Поэтому в полной мере оценить работу актеров могут те, кто видел несколько вариантов «Станиславского».
Зрители, смотревшие этот «спектакль» на малой сцене «Балтийского дома» в конце января 2009 года, считали сценический текст по-разному. Впечатлительные увидели душераздирающую бытовую драму. Скептические, в меру своей испорченности, — едва ли не ироническую зарисовку на тему «театра в театре».
Сюжет «Отелло» родился из постулата Станиславского, что герой «оживет», если актер представит его возможную биографию, предшествующую завязке пьесы. В этом уязвимость Системы. Потому что у шекспировских героев нет никакой другой биографии, кроме той, которую им дал Шекспир, и потому что интеллектуальных ресурсов актера Ивана Ивановича, при дефиците воображения, может элементарно не хватить для построения роли. И тогда произойдет подмена: на месте «гранита» окажется «пластик». Иван Иванович в предлагаемых обстоятельствах Отелло.
Правда, к актерам Праудина это замечание не относится — они показали себя не материалом, а художниками.
Возможно, Александра Кабанова (Отелло) и заставляли в детстве есть сырую печень. Возможно, Алла Еминцева (Эмилия) в 14 лет представляла себя Ассолью. Возможно, Юрия Елагина (Яго) с малолетства гнобили воспитатели. Не важно. Потому что рабочий материал (личные мотивы, воспоминания, ассоциации) превратился в самостоятельные образы. Воображаемое прошлое стало сценическим настоящим. А предлагаемые обстоятельства — сюжетом СПЕКТАКЛЯ с выстроенной, развивающейся системой отношений, воплощенных с помощью инструментария поэтического театра. Подтекст стал сценическим текстом, составленным из отдельных эпизодов (детский сад, служба в отдаленном гарнизоне, военные будни Яго и Отелло) и показывающим взросление героев, становление характеров и драматических отношений. И, разумеется, символические жесты (когда, например, Отелло метит черным Эмилию) никак не способствуют актерскому переживанию и не имеют никакого отношения к Системе в ее первозданном виде. Зато их легко считывает зритель, воспитанный на условном театре.
В финале актеры вышли на шекспировский текст, на сцену, венчающуюся репликой «Крови, Яго, крови». И она, действительно, выглядела подготовленной всем предшествующим действием. Но ведь подготовленными оказались и зрители?! Их эмоциональная реакция была обусловлена не только финальной сценой, но и предшествующим ходом событий.
Какое отношение этот сценический текст имеет к шекспировскому «Отелло»? Такое же, какое «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Стоппарда — к «Гамлету» Шекспира, экзистенциальные драмы Ануя по мотивам пьес Эсхила и Еврипида — к античной трагедии. Может ли кропотливая, изобретательная работа Праудина и его актеров стать материалом для будущей постановки «Отелло»? Может. Известно, что трагедия не давалась Станиславскому. Ключ, предложенный К. С., неизбежно ведет к жанровому переносу. И если когда-нибудь Анатолий Праудин поставит «Отелло», то это будет уже не трагедия, а психологическая драма. И главным в ней будет не Отелло, а наиболее драматически противоречивый персонаж — художник, аутсайдер, Яго.
Татьяна ДЖУРОВА
В основном (кроме одного — школярского, я бы сказал, абитуриентского — выступления) это очень интересные для меня высказывания, я с большим удовольствием прочитал. Думаю, люди все поняли. Дальше — вопрос взаимоотношений с тем, что они увидели. У меня нет ощущения, что я одинок во Вселенной и меня никто не понимает… Естественно, возникают некие разночтения, которые неизбежны при контакте с каким-то зрелищем. Я сначала удивился, когда прочитал, что все это может быть каким-то стебом, шуткой, а потом понял, в чем дело. Мы же показывали, как начинается репетиционный процесс, как артисты сговариваются о взаимоотношениях, о композиции… И в жизни это у нас проходит весело! Даже когда начинается работа над «Отелло» или «Царем Эдипом», в начале, когда еще прощупываются возможности взаимоотношений, подчас за дверью репзала можно услышать хохот и веселые замечания. Так что это не стеб, а творческая радость! И мы хотели быть честны перед зрителями.
Актеры, каждый заново, с нуля, начинают прощупывать коридор отношений и будущего взаимодействия, и во время технологической подготовки, вхождения в творческое самочувствие еще существует отстраненность. Может, поэтому возникло ощущение какой-то иронии, несерьеза. Пока материал еще чужой — это присутствует всегда. Но постепенно жанр меняется, и жанр репетиций меняется.
В практике случается, когда режиссер не прямо на площадке, а перед выходом дает артистам задание, которое они должны будут осуществить. И в данном случае так и происходит. Я собираю актеров за час до показа и предлагаю попробовать сегодня какие-то новые ситуации. Мало того, я иногда разговариваю с каждым отдельно, чтобы другие не слышали, что будет. В любом случае каждый раз они получают задание ставить друг друга в импровизационное положение. Это один из способов репетирования: идет разбор сцены — а дальше пускаешь артистов в пробу и не вмешиваешься. Потом разбираешь то, что получилось. Мне показалось продуктивным применить именно такой прием, чтобы не мелькать перед глазами зрителей.
Само собой, что для кого-то — это не Станиславский. Так же как Пушкин — наше все, так и Станиславский — наше все, и у каждого свой Станиславский. Как бы ты ни пытался разобраться в этом материале, интерпретация неизбежна, хоть тресни. И чем активнее процесс познавания, тем все дальше и дальше ты уходишь от общепринятых представлений. Но самое интересное замечание мне сделал В. М. Фильштинский. Он сказал: «Ну что ж, Вы совершили ту же ошибку, что и К. С.!» Он убегал, поэтому расспросить его поподробнее о нашей общей со Станиславским ошибке не успел…
С моей точки зрения, такой тренинг надо постоянно использовать. Я не знаю ничего более сильного! Можно варьировать этюды: у Станиславского есть этюд с сумасшедшим, есть этюд «топка камина», есть сцены из «Брандта», много запредельных ситуаций, которые он предлагает артисту просто делать раз за разом, просто пожить в них. Мы немножко расширили задание, начали с упражнений, а не с этюдов. Упражнение отличается от этюда тем, что оно не произвольно. Если начинаешь «жарить яичницу» — «жаришь» ее три дня. Когда актеры начинают исследовать квартиру — это чистое упражнение, оно вне композиции. Стоишь — и в мельчайших деталях изучаешь воображаемую дверь, пока она не возникнет перед твоими глазами, дальше — так же с ключом, дальше коридор… Просто мы договариваемся, что не будем два часа сидеть с ключом, потому что, кроме нас, это никто не будет в состоянии воспринимать… Первый раз, когда мы играли этот этюд для себя, он длился около шести часов, потому что все надо было сделать до конца. Но это кухня, без нее нельзя. Это дает очень мощный импульс для рождения в актере творческого самочувствия. Первую часть нельзя воспринимать отдельно — это подготовка к творческому процессу. Она очень долгая, но она необходима. На практике этого, как правило, не делают. Приходят актеры, одуревшие от своих дел, вся репетиция тратится на то, чтобы настроиться на творчество, только настроился — а тут, глядишь, уже пора и расходиться. А если бы актер перед репетицией проводил этот тренинг, он бы входил с совсем другим самочувствием. С художественной точки зрения — это только подготовка к творчеству. И есть надежда, что, таким образом размявшись перед репетицией, настроив свой аппарат, мы будем работать немножко лучше. А может быть, и нет!..
Анатолий ПРАУДИН






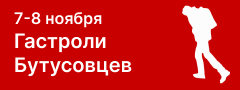









Комментарии (0)