У этого интервью есть своя судьба. Два года назад я встречалась с Геннадием Тростянецким, художественным руководителем Театра на Литейном. Восемь раз. Итог — запись беседы, по разным причинам пролежавшая в «столе». Наш разговор тогда начался со спектакля, который Тростянецкий за четыре дня поставил в Америке.
Светлана Мельникова. Как ты попал в О’Ниловский центр?
Геннадий Тростянецкий. О’Ниловский центр создан 26 лет назад в живописном месте, в трех часах езды от Нью-Йорка, в городе Уотерфорде, где жил Юджин О’Нил. В его доме сейчас устроен музей, а в комнатке, где он писал свои пьесы, сегодня может работать любой американский драматург. В течение года в Центр со всех концов Америки начинающие драматурги присылают

C. М. Приходилось ли тебе выступать там публично?
Г. Т. Когда я оказался на первом просмотре, я был ошеломлен: я просто не поверил, что это репетировали 4 дня. Показ напоминал то, что у нас принято называть «прогоном без декораций». На следующий день во время обсуждения я высказал эту мысль, но меня не поняли: для них это в порядке вещей. А спросили, что я думаю о самой пьесе, в которой было много действующих лиц, а в центре — молодой герой, пытавшийся понять самого себя. И тогда я рассказал о том, как вчера в шесть часов вечера стоял в самом центре Нью-Йорка, на пересечении двух знаменитых улиц в окружении пяти знаменитых небоскребов. Несметное количество людей проходило мимо меня — кончался рабочий день. Каждый жил в своем ритме и в своем сюжете: кто-то расписывал фонарный столб, другой вытаскивал из мусорников пакеты из-под молока, третий упорно совал их под колеса автомобилей, чтобы те хлопали… Мне захотелось обратить на себя внимание, и я решил крикнуть во все горло. Крикнул (голос у меня громкий). Никто даже не повернулся в мою сторону, а переводчица Надя расхохоталась громче меня. Я опять заорал — тот же эффект! Чернокожий мальчишка бросил взгляд на мой брелок, пристегнутый к джинсам. Я увидел со стороны себя — идиота из России, который стоит в центре Нью-Йорка и орет… Мне стало страшновато. Вот этого мне и не хватило в той пьесе. Американцы, слушая меня, сначала захохотали, потом замерли, а после всего этого разразились аплодисментами. И каждый из ста подошел потом к нам, произнеся свое знаменитое американское «о’кей!», сложив пальцы в маленькую баранку.
С. М. Тебе было легко работать с американскими актерами?
Г. Т. Это люди высокой профессиональной культуры, внутренне подтянутые и всегда готовые к работе. Актер, который азартно играл на теннисном корте, через пять минут сидел у меня на репетиции, вымытый и вычищенный, как пупс, и засыпал меня конкретными вопросами по роли — теперь он был похож на усердного архивариуса. Мне показалось, что американский актер, если говорить о школе, сформирован на своей традиционной драме — это О’Нил, Уильяме, Миллер, Олби. Модель американской драмы — модель семьи, которая очень важна для Америки. Американские актеры умеют на сцене рассказывать истории о других людях. Высший класс здесь — это умение создать образ совершенно другого человека. Наша школа больше тяготеет к исповедальности и вычерпанности себя — вспомни Эфроса!
С. М. Как складывались твои отношения с Мастером? Поговаривали, что Товстоногов приглашал тебя на постановку в БДТ. Так ли это?
Г. Т. Так. В 1987 году, когда я работал над «Печальным детективом» в Москве, меня вызвал на разговор ГА. Он действительно предложил мне что-нибудь поставить. Тогда я вынужден был отказаться. В тот момент у меня не было достойной театральной идеи, а идти в БДТ пустым я не счел возможным. Я отказался, не объясняя ГА. причин. Он был неприятно удивлен, наши отношения с той поры прервались, и мне стоило огромных усилий их возобновить. Я бывал у него дома раза три, мы говорили по многу часов — обо всем на свете. Только я не смог преодолеть комплекс «ученик-учитель», а он, как человек свободный, предлагал игру на равных. Он обладал почти гипнотическим воздействием. Я всегда выходил от него окрыленным. Помню, в институте, после показа моих «Белых ночей» по Достоевскому, Товстоногов на обсуждении жестоко разругал спектакль. Я провожаю его по белокаменной институтской лестнице и с отчаянием говорю: «Георгий Александрович! Ну что такое, у меня всё ошибки и ошибки. Сколько же можно?!» И вдруг он поворачивается ко мне, кладет руку на плечо и с улыбкой отвечает: «А у меня?!..»
Вот после таких слов я мгновенно пришел в себя. Я почувствовал, что ошибки неизбежны, что на них нельзя жаловаться, как нелепо жаловаться на смену времен года. Это меня внутренне раскрепостило, и я за одну ночь переделал спектакль. ГА. для всех нас был конкретным человеком — и одновременно мифом. Если я видел в нем бога, то всё, о чем он говорил, оставалось на Олимпе, было недосягаемым. Если же я начинал воспринимать его как практика, я открывал для себя чрезвычайно важные законы профессии. Этот процесс длится во мне до сих пор. Только теперь я знаю, какие вопросы мог бы задать Учителю…
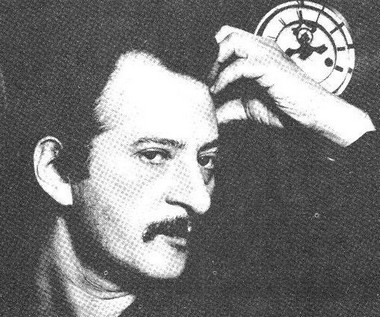
С. М. В твоем «послужном списке» — несколько десятков спектаклей. Среди них — и обязательные для прошлых лет утренники про Ленина в ТЮЗе, и не слишком сочетающиеся друг с другом Афиногенов и Брехт, Олби и Думбадзе, и еще множество других, в которых ты значился художественным руководителем. Понятно, что режиссер не может ежегодно выдавать шедевры. И все же: не слишком ли велик поток? Не захлестнул он тебя?
Г. Т. Захлестнул! Как и тебя, как и многих из нас. Я вырос и вышел из конформистского театра, который часто внешне вступал в борьбу с системой, в других случаях — путем аллюзий, ассоциации пытался все же говорить о том, о чем велено было молчать. Я гордился тем, что ни одна конъюнктурная пьеса на сцену Омского театра не попала. Но корни этого конформизма уходят гораздо глубже. Споря с власть придержащими, мы всё равно верили, что работаем на животворящую идею прекрасного будущего. На самом деле нет в мире ни одной идеи, которая была бы выше человеческой жизни. И ни одна человеческая жизнь не может быть принесена в жертву идее. А поток… Поток действительно, был. Я вышел из института с ощущением, что могу поставить любую пьесу. У меня не было отношения к постановке спектакля как к акту серьезного, крупного высказывания. Думалось так: сначала будет поток, а уже потом, когда я освоюсь и, что называется, набью руку, начну создавать произведения искусства. Ничего подобного! Я очень много делал в «потоке»: доделывал, доводил до ума чужие спектакли и не сразу обнаружил, что предавал себя. У тех спектаклей, которые я строгал один за другим, латая дыры в афише театра, была короткая сценическая жизнь. И — напротив, та четверка омских постановок, которые я сочинил, выстрадал и почти родил — жила долго. Не сразу я понял, что профессия — это средство, а не самоцель. А итог — это, вероятно, диалог с жизнью, с самим собой. Ни на секунду нельзя потерять эту нить, иначе профессия может стать врагом.
* * *
Прошло два года. На этот раз встреч было всего лишь пять.
Своеобразным итогом этих лет стал для Тростянецкого «Король Лир». Однако мы с нетерпением ждали появления еще двух постановок — «Петербурга» по роману Андрея Белого и спектакля по главам из «Анны Карениной» Льва Толстого.
С. М. Неожиданно ты прервал все репетиции, а потом объявил о постановке «Лира». Почему же не вышли эти спектакли?
Г. Т. Были сделаны эскизы двух спектаклей, объединенные общим принципом работы. Я пригласил актеров, дал им в руки роман «Петербург», и мы вместе начали сочинять спектакль. Мне хотелось, чтобы каждый актер стал автором своей роли. В результате должно было возникнуть ровно столько моноспектаклей, сколько актеров было занято в работе. Вначале такой метод репетиций вызвал сопротивление. Вероятно, сказалась неосознанная привычка к иждивенчеству. Но тем не менее я был неумолим, ибо понимал, что каждому из них необходимо прочувствовать самому судьбу своего персонажа. И вместе с тем перестать бояться собственной человеческой реальности на площадке.
С. М. Что ты имеешь в виду?
Г. Т. Систему «прикрышек»: то характерностью, то острой мизансценой, то шикарным костюмом, то хохмой, то «страданием» и т.д., и т.п. Мы все в театре научились работать на подмене. А здесь задача была — расчистить все это и пробиться к сокровенной точке, где сливается подлинное человеческое чувство актера как человека и его персонажа. Тогда все вышеперечисленное возможно, но оно станет лишь оболочкой, за которой зритель должен ощутить живой театр. Блистательно репетировал Виктор Сухоруков из нашего «Лейкома». Мне кажется, он одним из первых почувствовал эту задачу. И тем не менее добиться желаемого результата до конца мне так и не удалось. Я скатился на прежние методы репетиций — по сценам. Но когда на площадку вышел Александр Лыков с книжкой Белого в руке и «проиграл» ногами всю роль террориста Дудкина от начала до конца, я вновь воспрял духом. В конце концов мне удалось сложить монолог, но это был мой собственный монолог, состоявший из отдельных сцен, актерских проб, написанных текстов, вспыхивающих в сознании зримых образов. Как-то сложилась в голове сюжетная линия, я почувствовал стиль будущего спектакля, и это до сих пор во мне живет, — действительно, как набросок. Во второй работе в большей степени проявились черты реальности. Таким же методом я работал с тремя актерами над спектаклем «Каренин, Анна, Вронский». Дело дошло даже до рабочего прогона, на который мы пригласили десяток зрителей. Но, чтобы добраться до конца, мне надо было отрешиться от организационных дел в театре, а этого я сделать не смог.
С. М. Почему?

Г. Т. Дело в том, что не существует такой профессии — главный режиссер. Это — придуманная, искусственная вещь. На мой взгляд, главным является тот режиссер, который выпустил интересный спектакль в театре. Эта должность была изобретена для того, чтобы компенсировать бездарно разработанную экономическую структуру театра, в которой люди, работающие в нем, часто не связывают свою ежедневную деятельность с результатами труда. А он оценивается сегодня вечером, в 19.00 — после открытия занавеса. Профессия каждого человека, служащего в театре, должна сполна работать на главное, — на спектакль. Потому завпост обязан сделать красивую и надежную декорацию, а актер — создать в процессе репетиций яркий, волнующий образ вне зависимости от того, нравится ли ему личность главного режиссера или характер заведующей костюмерным цехом. Должность, в которой есть приставка «главный», создана для того, чтобы пугать людей, грозить им пальцем или кого-то мирить. Это глупо. Это — результат режима, в котором существовала страна, ибо театр всегда является моделью того государства, в котором живет. Представь теперь, сколько усилий мне приходилось тратить на всё Э Т О! Да еще человек, которого я пригласил на должность директора, стал разрабатывать свой, далекий от моих замыслов и принципов театр. Я ошибся в нем. Мне казалось, что он тонко улавливает творческий процесс изнутри, а он оказался зрителем. Догадаться поставить в месячный репертуар 9 раз «Скупого» и 8 — «Упыря», чтобы заполнить дни недели, я мог бы и без него. А вот предложить особую структуру театра, при которой возможны репетиции, подобные «Петербургу» и «Карениной», это дело посложнее. Здесь самое главное — научиться выращивать сад, а не снимать урожай. Кроме того, этот приглашенный мною директор и торговцем-то оказался достаточно провинциальным — у него не хватало ни фантазии, ни дерзости. Естественно, у него даже сомнений не возникало в том, что творческий процесс в театре должен быть подчинен Администратору, а не художнику. Во времена его руководства все в труппе театра на Литейном чувствовали себя изгоями. Мы драматично переживали эту ситуацию, постарались выйти из нее достойно, но зарубки на сердце, конечно, остались.
С. М. Как ты считаешь, произошли ли за это время качественные изменения в труппе театра на Литейном?

Г. Т. Ты знаешь, я с радостью могу сказать — да, произошли. Очень остро я почувствовал это на февральских гастролях в Минске. Приехав туда, мы едва успели распаковать вещи, как тут же попали на телевидение, где о нас собирались снимать







Комментарии (0)