

Марина Дмитревская Как вам кажется, есть ли у театра и религии точки пересечения, некая общая территория? На чем строятся их взаимопритяжения и отталкивания?
Ольга Седакова Я думаю, что корни театра (как и музыки, и поэзии, и пластики) уходят в ту глубину человеческого бытия, которую можно назвать религиозной. Я не имею в виду исторические корни, то есть всем известное происхождение театра из религиозного действа, обряда, мистерии. Я имею в виду корни, которые в любую эпоху, древнюю или новейшую, остаются корнями. Я имею в виду то, чем, говоря по-толстовски, человек жив. Что ему совершенно необходимо — иначе он кончится. В обыденной жизни можно бесконечно избегать встречи с этим самым глубоким желанием человека, с его самым глубоким вопросом о себе и о мире. Можно избегать ее и в искусстве. Но не в том искусстве, которое любят и помнят. Которое не только не уходит со «своим временем», но обгоняет будущее. Как у Марии Петровых:
…сладостное право
Опережать века.
Намеренно или ненамеренно, всякое серьезное сочинение говорит в религиозной перспективе. Я не очень люблю это слово: «религия», но другого у нас нет для таких разговоров. Шекспировский театр: можно ли не чувствовать этой — «религиозной» и даже точнее — христианской — глубины в «Гамлете» или в «Буре»? Дело не в предмете, сюжете сочинения или спектакля. Можно брать библейские и евангельские сюжеты — и обходиться с ними так же, как с газетным фельетоном. А можно писать пьесу про бессобытийную провинциальную жизнь, не поминая ничего «религиозного», не делая многозначительных намеков, не прибегая к символам и аллегориям, но за действием мы слышим нечто другое: речь идет о той глубине, где человек движется и живет в ожидании Встречи («Три сестры»).
Пауль Тиллих, богослов XX века, говорит о том, что «религиозным» может быть названо то, что представляет для нас «последние вещи», «предмет крайней важности», а не сами по себе традиционные топосы, такие, как «ангел», «бессмертие» и др., которые могут быть рассматриваемы совсем внерелигиозно.
Я совсем не театрал и мало представляю себе актуальную жизнь театра. Но из того, что мне встречается, я могу заметить, что современный театр (и у нас, и в мире) по большей части предпочитает эксцентрику, игру, шок как отношения со зрителем. Какой бы сюжет, какого бы автор ни выбрали для постановки, с ним непременно «поработают» — не с тем, чтобы выслушать интенцию автора, а с тем, чтобы сделать из него нечто «свое». Мне очень хотелось бы увидеть что-то другое: то, что соприкасается с глубиной и сердечной сосредоточенностью.
Дмитревская Но вот как раз актуальная жизнь театра сейчас складывается из очень странных переплетений-расхождений. С одной стороны, театр обращается к религиозным сюжетам и ставит спектакли из жизни канонических святых (например, Ксении Петербуржской), беря благословение у иерархов. С другой стороны, клирики все больше цензуруют театр. В прошлом сезоне не только произошла шумная история с «Тангейзером», где политическая интрига прикрывалась православием, но ижевский священник требовал у администрации снять из репертуара театра пушкинскую «Метель», в которой, как известно, есть нетрезвый дьячок; монахини в Советске (прекрасное словосочетание) добились изъятия из спектакля о св. Ксении сцены, где она, на правах юродивой, ругает заевшегося попа, и так далее. Вплоть до недавнего заявления Патриарха Кирилла о необходимости церкви вмешиваться в дела неугодной культуры…
Седакова Конечно, это отвратительная ситуация, такого быть не должно. Ничего кроме безобразных скандалов это не обещает. Церковные активисты берут на себя роль цензуры. Такой же невежественной и агрессивной, как была советская цензура прошлого, исходящая из классового и материалистического учения. При этом формального права (конституционного) у Церкви на такую цензуру нет. Это самодеятельность. К той религиозности, о которой я говорила выше, это не имеет никакого отношения.
Февраль 2016 г.







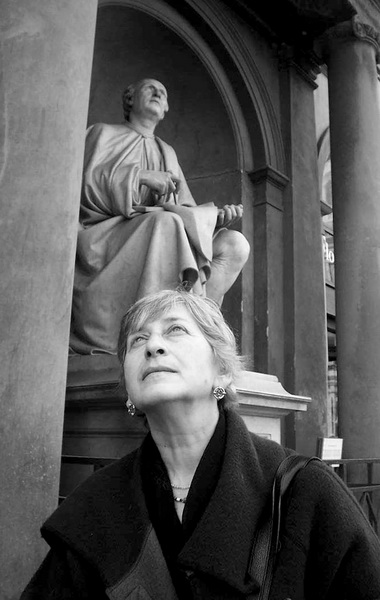


Комментарии (0)