С ЧЕГО НАЧАЛСЯ ДЛЯ ВАС ТЕАТР? ИМЕЛ ЛИ В ДЕТСТВЕ НА ВАС КАКОЕ-ТО ВЛИЯНИЕ СОБСТВЕННО ТЮЗ?

Михаил Бартенев, драматург
Театр для меня начался с сидения на коленях у «дяди Коли» — Николая Робертовича Эрдмана. Он этого, по-моему, терпеть не мог, но мне нравилось, и он не решался меня согнать. Они с отцом обсуждали какие-то театральные сплетни, а я, ничего не понимая, внимательно слушал. Особенно на меня действовало загадочное слово МХАТ. Это было что-то такое из восточных сказок.
Что касается детских спектаклей — то, конечно же, «Синяя птица». Никогда мне не было так скучно! А потом, когда стал повзрослее, часто ходил (а сначала — водили) в Центральный детский. Неизгладимое впечатление — «Король Матиуш Первый». До сих пор, кажется, сохранились рисунки: я год потом рисовал какие-то города и дворцы «под Змойро». Тогда я твердо решил, что не буду моряком, а стану театральным художником.
Но жизнь показала, что колени Эрдмана повлияли на меня все-таки сильнее, чем декорации Змойро. Стал драматургом.

Алексей Бартошевич, доктор искусствоведения
Все мое раннее детство прошло за кулисами МХАТа, меня пускали не только на детские, но и на взрослые спектакли. Так, лет в 5 я видел Москвина в «Царе Федоре» и Хмелева в «Дядюшкином сне», а во время представления инсценировки «Воскресения» я даже пытался вступить в разговор с «лицом от автора» (Качалов был еще жив, но в тот вечер роль играл И.Я.Судаков). Почему меня немедленно не вывели из зала и кто пустил на «Воскресение» пятилетнего ребенка и к тому же посадил его в первый ряд, предоставив ему полную возможность начать вышеупомянутый диалог, ума не приложу. Стало быть, мои детские театральные впечатления — от сугубо недетских спектаклей. Разумеется, я много раз видел «Синюю птицу» и поставленные во МХАТе году в 46-м «Двенадцать месяцев» (после частых посещений я выучил пьесу Маршака наизусть и смущал актеров, выкрикивая из зала их реплики как раз аккурат перед тем, как они должны были их произносить, — на этот раз билетеры строго меня одернули. Мной руководил, боюсь, не столько театральный энтузиазм, сколько желание блеснуть осведомленностью в театральных материях). Детские театры я начал посещать позже, чаще всего в составе школьных «культпоходов». В ЦДТ — первое сильное, очень сильное, магическое впечатление — «Тайна вечной ночи», поставленная, как я узнал много лет спустя, Г.А.Товстоноговым. В детали не вхожу, поскольку и так заговорился.

Борис Гранатов, режиссер, художественный руководитель Вологодского ТЮЗа
Для меня театр начался с театра. Мой отец был актером Киевского русского театра имени Леси Украинки. Я вырос в одноэтажном доме во дворе театра в самом центре Киева. И детские игры в прятки и в войну проходили в стоящих под навесами во дворе завалах и лабиринтах театральных декораций. В 7 лет впервые вышел на сцену в массовке. Так что «дышал запахом кулис» почти с рождения. И первые спектакли смотрел из маминой суфлерской будки, а потом уж из зала. А было это в 50-х годах, когда в «русской драме» (так называли театр киевляне) служили Михаил Романов, Юрий Лавров, Кирилл Лавров, Олег Борисов и многие другие замечательные артисты. А какие спектакли были — «Живой труп» Толстого, «Овод» Войнич, «Маскарад» Лермонтова, «Мертвые души» Гоголя, «Дни Турбиных» Булгакова. Вот с чего начался для меня театр.
А собственно детских спектаклей не было в этом театре. Однажды с классом привели в киевский ТЮЗ. По-моему, это был спектакль «Сомбреро» Михалкова. Жутко не понравилось после «родного» театра. Наверное, эти детские впечатления так сильно повлияли на меня, что, сделавшись руководителем театра, стараюсь для детей ставить только хорошую драматургию — в основном классику.

Александр Пантыкин, композитор
Для меня театр начался с моего отца, который был режиссером народного театра. При этом он сам играл на сцене, ставил спектакли и дружил со многими известными театральными деятелями города, которые частенько бывали у нас в гостях. Первая моя серьезная работа как композитора — «Маленькие трагедии» Пушкина в постановке папы на сцене ДК УРАЛ в 1976 году. Роль слепого скрипача играл мой родной брат Андрей. Он так плохо играл на скрипке, хотя и учился в музшколе, что сцена с Сальери выглядела очень смешно и правдоподобно. А если говорить о моих детских воспоминаниях, то меня больше всего поражали знакомые актеры, которых на сцене я всегда принимал «за чистую монету» и не мог понять, почему в жизни они совсем другие. Больше, к сожалению, я не помню ничего.
Анатолий Смелянский, доктор искусствоведения

Театр начался для меня с горьковского ТЮЗа середины 50-х годов. Там было несколько чудесных актеров: Саша Палеес, Володя Левертов — они открывали театр именно как искусство легкой, умной, бесконечно содержательной игры. Так это и осталось на всю жизнь. Это как с едой, которую ешь в детстве. Я и сейчас даже в странах, где «нашего не едят», стараюсь питаться так, как это было в детстве.
Детские спектакли сильно повлияли — поскольку я играл, начиная с 13 лет, в некоторых спектаклях Горьковского ТЮЗа, например в «Золушке». Бросил при этом школу, сходил с ума, учил скороговорки, играл мыша в этой самой «Золушке», смотрел на старших товарищей — актеров как на БОГОВ. Теперь не смотрю на них как на БОГОВ, но что-то осталось важное, сокровенное от того времени, когда пришлось выходить вместе с ними в освещенное пространство. И сейчас уверен — детские впечатления от спектаклей формируют представление о театре на всю жизнь. По крайней мере в эмоциональном плане.

Борис Блотнер, меценат
Лет в 15 (то есть 45 лет назад!) я, помню, сидел на каком-то взрослом спектакле. Не помню, на каком, кто там играл и что там вообще было, но я сидел открыв рот и черпал какую-то жизненную мудрость… Я вырос из жизни, которая не имела детства (после войны мать, командир взвода, была инвалидом второй группы, у меня была младшая сестра, и с седьмого класса я работал, учился в вечерней школе и кормил семью). И в этом спектакле было то взрослое, интересное и новое, чего я не знал (а знал матерные слова и курение). И это меня поразило. А детская дуриловка — нет, не трогала.

Владимир Гусев, директор Русского музея
Я вырос в провинции, в Твери, и для меня театр начался там. Помню актеров со старыми провинциальными фамилиями — Годлевские, Вронские… Театр начался для меня со спектакля «Хрустальный ключ», где играл совсем молодой С.Мишулин. Дурной спектакль о пограничниках. И второе впечатление — «Синяя птица» во МХАТе, куда меня повели родители. Помню, как тесто вылезало из квашни…

Сергей Некрасов, директор Всероссийского музея А.С.Пушкина
Нет, сильных впечатлений от детских спектаклей не помню. Не случилось, не повезло… Я помню в брянцевском ТЮЗе спектакль «Сомбреро», но на меня произвел впечатление не он сам, а зал на Моховой, 35, где я был впервые. А первое сильное впечатление — Виталий Павлович Полицеймако в «Лисе и винограде». Это было настоящее.

Юрий Шевчук, поэт, композитор
В театр не хожу. Театр ненавижу. Не люблю.

Алексей Лушников, телевизионный продюсер
Детских спектаклей не помню, хотя ходили в ТЮЗ со школой часто. Помню сам факт пребывания в театре. Если сильного впечатления не помню — значит, не было.
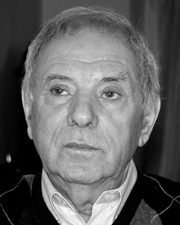
Петр Тодоровский, кинорежиссер
В моем детстве были только приезжие кукольники, шарманщики, блуждающие труппы. А детские спектакли я стал смотреть уже в Москве, в Одессе, где работал. И никакого сильного первого впечатления театр мне не дал.

Моисей Каган, доктор философских наук
Именно с довоенного ленинградского ТЮЗа на Моховой все началось. «На перевальной тропе» я помню до сих пор! И еще в школе была хорошая театральная самодеятельность. Двумя этими вещами и питались театральные впечатления. Ну, а потом уже была личная дружба с Л.Ф.Макарьевым, восхищение Н.Мамаевой в Джульетте…

Святослав Свяцкий, переводчик
Безусловно, первым театральным впечатлением, еще до войны, был спектакль Нового ТЮЗа, которым руководил Б.Зон (в помещении нынешнего Театра Эстрады), — «Красная Шапочка». Я отчетливо помню его до сих пор! Помню потолок, люк в потолке, точно, что ощущение театра пошло именно оттуда.

Лев Закс, доктор философских наук
Мои первые встречи с театром случились так много лет тому назад, что есть большая опасность вполне невольной подмены реальных тогдашних фактов сегодняшней выдумкой. Постараюсь быть максимально правдивым.
Мне повезло: с рождения я жил в том доме в самом центре Свердловска, от которого всего несколько шагов до театров оперы и балета, музыкальной комедии и ТЮЗа (до драмтеатра было чуть дальше, но тоже не более 15 минут небыстрой ходьбы). Поэтому ходить в театр самим и брать с собой детей моим родителям было легко. Случилось это, впрочем, уже во вполне сознательном возрасте — лет в пять (возможно, и раньше, но этого я, увы, не помню).
О театре я узнал прежде, чем сам туда попал. Узнал из разговоров дедушки и бабушки, живших с нами и постоянно посещавших находившийся через дорогу ТЮЗ: они ходили туда (в том числе на дневные спектакли) столь же часто и с такою же привычной радостью, что и в свой любимый скверик, где коротали время вместе с ровесниками. Хорошо помню тон их разговоров о театре и спектаклях: он не был экзальтированным, романтически-восторженным, особо трепетным — скорее, наоборот, сдержанным, будничным, воплощавшим привычность самого явления и встреч с ним. Но в то же время столь бесспорно уважительным и заинтересованным, что само собой входило в сознание: театр — естественная и необходимая часть нормальной человеческой жизни, ее событийного и смыслового богатства. На собственно детские спектакли дедушка и бабушка не ходили и о том, чтобы повести на них внука, вопроса (до поры) не поднимали. Хорошо помню, как они с удовольствием обсуждали «Коварство и любовь» и гремевшую тогда премьеру спектакля по пьесе Владимира Балашова «Когда в садах лицея», где сам Балашов пылко играл лицеиста Пушкина. Я этот спектакль тоже потом видел, но, кроме бакенбардов Пушкина—Балашова, не помню его совсем, а вот восхищенную реакцию деда и бабки помню отлично.
ТЮЗ не произвел на меня, малолетку, большого впечатления и, думаю, какого-то особого «формирующего» влияния не оказал. Объясняю это тем, что тогдашний свердловский ТЮЗ был беден и постановочно (в памяти остался усредненный серо-зеленый колорит и дребезжание жидкой смычковой группы оркестра: все спектакли шли под примерно одинаковую типично «тюзовскую» музыку К.А.Кацман), и содержательно. Во всяком случае, в моем сознании тюзовские спектакли никак не могли конкурировать с магическим, абсолютно завораживающим воздействием оперы и балета. Вот где впервые родилось ощущение другого — чудесного мира, в котором даже печали и страдания сладостны и возвращаться из которого в обычную жизнь не хочется. «Щелкунчик», «Спящая красавица» поразили и «запали в душу» на всю жизнь, стали любимым, сквозь многие годы сохраненным сновидением и при этом так «соматически» слились с тогдашним чувством жизни, что с тех пор какой-нибудь вальс снежинок или вальс цветов автоматически возвращает детские счастливые ощущения сказки, тайны, чуда. А первой оперой была «Золотой петушок» — постановочно яркая, восточно-«пряная», с массовыми батальными сценами и жуткой картиной пронзивших друг друга мечами сыновей Додона, с мерзким старикашкой Звездочетом и еще более нехорошей Шамаханской царицей (подозреваю, что ее образ стал для меня и первым эротическим опытом, и первой серьезной информацией о женском коварстве и разрушительных соблазнах, коренящихся в непреодолимых слабостях самой человеческой природы). Великого же сатирического смысла творения Римского-Корсакова я по малограмотности и неопытности своим не воспринял совершенно. Надо честно признать, что и игровая сущность театра «дошла» до меня много позже, а первые сильные театральные впечатления и переживания были от начала до конца мифологическими.

Георгий Данелия, кинорежиссер
До войны большое впечатление произвела на меня «Синяя птица» во МХАТе, а война застала меня в Тбилиси. Тетка моя, Верико Анджапаридзе, была драматической актрисой театра им. Марджанишвили, и в детстве я ходил в театр, где играла она, и смотрел Маргариту Готье, Шекспира… С этого все началось.
Наверное, я был киношник с рождения, и запомнился мне не театр, а «Путевка в жизнь», «Чапаев»…
В моем детстве были очень популярны театральные постановки по радио (до сих пор помню песню из «Трех мушкетеров»). И когда я слушал радио (и пока в войну радио не отобрали), я мечтал, чтобы у него был маленький экран и там были маленькие фигурки.
А вообще, когда знакомые актеры приглашали меня в театр, это была мука. Я — курильщик, курил по три пачки в день, и мне с самого начала спектакля уже хотелось курить. Я даже ни один свой фильм до конца смотреть не мог, на Мосфильме мне было дано специальное разрешение курить — и некоторые картины я таки выдерживал.
И вот два года назад я бросил курить. Ну, думаю, посмотрю нормально театр. Но дело в том, что я столько лет (не дней, не месяцев) просидел в монтажной и так привык, когда уже все понятно, отрезать и выкидывать, что и тут театр стал для меня плохо переносим: уже все ясно, а они все разговаривают и разговаривают!
В общем, это болезнь киношника.

Юлий Ким, поэт, композитор
Впервые я воспринял театр как театр в первом классе, оказавшись в церкви. Увидев, как я теперь понимаю, православного священника. Я сказал: «Какой хороший артист!» Я решил, что это театр.
А если без шуток, то впервые сознательно я увидел театр в студенческом возрасте. В Москве. Все, что связано с ТЮЗом, — воплощал я сам, со второго класса прыгая на школьной сцене. И это неизбежно должно было привести меня в профессиональный театр, особенно если учесть, что в институте я познакомился с Петром Наумовичем Фоменко. Это тоже может объяснить мое непреклонное стремление к театру.
Что касается детского театра сейчас, то какими бы ни были наши ТЮЗы — они на порядок выше того ширпотреба, который валится на маленького человека из этого подонка — телевизора.







Комментарии (0)