«Чук и Гек» (по мотивам произведений Аркадия Гайдара). Новая сцена Александринского театра.
Режиссер Михаил Патласов, художники Александр Мохов и Мария Лукка
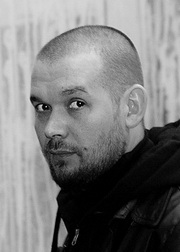
Работая с документальным материалом, Михаил Патласов всегда избегает прямой его подачи. Так и в «Чуке и Геке», кроме документального и художественного пластов, комбинируются и замещают друг друга языки — игрового и документального театра, документального и игрового кино.
Текст самой, наверное, известной детской повести Аркадия Гайдара и письма, документы, свидетельства репрессированных и их палачей существуют не автономно, не разграничены. Второе становится своего рода подтекстом первого. Каждому повороту сюжета повести, будь то ситуация с письмом, выпавшим из окна, исчезновением Гека на геологической станции или эпизодом, когда по ошибке ночью он попадает не в свое купе, здесь найден, подобран свой документ-аналог, реальный человек-рифма.
Драматург Андрей Совлачков в интервью рассказывает: «У Гайдара такая история. В 1938 году он пишет повесть „Судьба барабанщика“, где главный герой мальчик, отца которого сажают в тюрьму. И в первой редакции отца посадили по доносу. Во второй — за растрату. Считается, что это первое упоминание о сталинских репрессиях в литературе. После публикации первой главы был донос на Гайдара. Тут же прекратили публикацию повести, а из библиотек изъяли все его книги. Он уже готовился к аресту. А это было как раз время, когда арестовали его друга Тухачевского, с которым они вместе травили газом тамбовских крестьян в отрядах ЧОН. И вот „Чук и Гек“ были написаны сразу после этого.
Тимур Гайдар пишет, что в этом произведении нет отзвука тех событий, но есть их своеобразный отсвет. Это о 37-м годе, о репрессиях. В этом произведении репрессии считываются на каком-то интуитивном уровне. Там все построено на страхе. Поездка детей к отцу на север в зимнее время, отец их не встречает, почему-то не может сам поехать в Москву. Там есть ощущение зыбкости того времени» 1.
Нечто подобное я испытала, например, когда совсем недавно перечитывала гениальную «Голубую чашку», другую книгу-путешествие, где для нас глазами пятилетней девочки будто бы в первый раз открывается объемный, удивляющий, прекрасный мир: возникает подозрение, что под ногами вот-вот разверзнется бездна. Та же загадка стоит за сюжетом «Чука и Гека»: письмо отца, застрявшего на геологической станции в Сибири, долгое путешествие через всю страну, дремучий лес, медведи, пропавшие геологи, тайна и сказка на подступах Нового года…
Документальный и игровой планы в спектакле монтируются по принципу контрапункта. И если в зачине спектакля Дарья Степанова (мать мальчиков) надеется на встречу с мужем, то Алексей Фролов, выступающий за мужа в реальности гайдаровской повести, отвечает: «Ты пишешь о свидании: брось эту мысль. Человеку, не бывшему в таких условиях, знакомство с ними будет равносильно убийству». По ходу действия спектакля черно-белый язык документа и ядовито-яркий техноколор игрового кино взаимопроникают, образуя, по сути, сюрреалистическую картину мира, в которой соединяются несоединимые элементы. Так на экране две половины лиц разных героев соединяются в одно и потом сгорают (буквальная цитата из «Персоны» Бергмана). Так в финале, в конце пути, и мы, и персонажи погружаемся в атмосферу страшной святочной сказки, где уже неразличимы игровой и документальный планы. Люди в ватниках со старушечьими масками на лицах, едва отзвучал жуткий рассказ про «колымский трамвай», сливаются в макабрической пляске вокруг новогодней елки. Высвечиваются образы подсознания: за спиной побледневшего Гека вырастает гигантский силуэт медведя. А «ряженые» медведь (бывший охранник Иван Гайдук) и козел (Иосиф Сталин) играют в карты…
Центральный элемент сценографии — ювелирно выстроенный макет страны с железной дорогой, по которой игрушечный поезд бежит «от Москвы до самых до окраин» мимо Кремлевских башен, елового леса, фабрики, уютно-заснеженного полустанка прямиком в… лагерь за колючей проволокой. И так получается, что главные герои — почти анимационные по способу существования Чук и Гек, а также их энергичная мама, как будто шагнувшая с полотен Дейнеки Дарья Степанова, — периодически попадают в этот мир. Благодаря искусной съемке онлайн, за которую отвечает девочка-оператор в пионерском галстуке, человеческие фигуры монтируются с элементами макета, плоской бутафорской рамкой окна например, и тут же попадают в «мир цветного кино» — большой экран установлен тут же, обнесенный металлической галереей, он под наклоном словно бы немного нависает над зрителями. Например, Чук и Гек выглядывают в трафаретное окно-прорезь, установленное на столике. Но на большом экране этот «крупный план» квартиры героев смотрится вполне убедительно. Так же виртуозно смонтированы разные планы эпизода железнодорожного путешествия: в кинематографическом плане за окном восходит оранжево-яркая луна, в театральном же мы видим, что это апельсин на веревочке, который катит человек в черном. А крупные планы лиц монтируются с бутафорским пейзажем из папьемаше.
Таких трюков в спектакле много. Сама технология моделирования образа формулирует проблему спектакля — проблему искусственно смоделированной жизни, своего рода волшебного «иллюзиона», фальсификации истории, глянцевого фасада самой счастливой и прекрасной страны в мире и ее изнанки.
В спектакле звучат речи Крупской, воспоминания и письма охранников, свидетелей, доносителей, заключенных, известных (Тамара Петкевич, Георгий Жженов, Вацлав Дворжецкий) и неизвестных. Игровой план в спектакле отдан исключительно Чуку и Геку (чем, возможно, подчеркивается их «детское» неведение). Рассказчиком выступает сам Аркадий Гайдар, сыгранный Петром Семаком этаким придурочным Оле Лукойе, в узнаваемой кубанке, с одуловатым лицом не то младенца, не то запойного алкоголика, во всеоружии интонаций доброго сказочника. Наверное, Гайдар мог бы получиться объемнее. С учетом того, какая непростая была у него биография: несомненный талант, психические травмы войны и юности, садизм, доходящий до патологии, алкоголизм, странная смерть… Но авторы спектакля оставляют только один намек на калечность своего героя… когда, взобравшись на галерею, словно на трибуну, распаляясь все больше, яростно брызгая слюной, Гайдар— Семак выкрикивает призывы к расправе с врагами из сборника «Советским детям» 1941 года.
Прочие артисты и персонажи свободно переходят из одной реальности в другую. Звучат свидетельства жертв и палачей большого террора, на большом экране возникают титры, лица, биографические справки. И при этом у каждого из артистов, докладывающих эти истории, есть своя, пускай крохотная роль в сюжете Гайдара, будь то случайный попутчик путешественников или сторож на геологической станции. Сбросив треух и мохнатую бороду сторожа, с ясно-безмятежным взглядом голубых глаз в ласковой сетке морщин горделиво рассказывает Иван Гайдук, замечательно точно, аналитически сыгранный Аркадием Волгиным, про то, как его любимая овчарка обнаруживала бежавших лагерников, спрятавшихся под снегом. Не мигая, смотрит с экрана стерильно-ясным взглядом расстрельщик (Сергей Сидоренко), рассказывая про то, как всякий раз обдавало его после выстрела душем теплой крови, как приходилось мыться в одеколоне после рабочего дня, чтобы отбить ее запах. И, слушая этот рассказ, ты буквально ощущаешь тяжелый и плотный дух смерти.
Ну и, наконец, Агнесса Миронова-Король, жена высокопоставленного энкавэдэшника, сыгранная Ольгой Белинской. Линия этой героини в спектакле автономна. Может быть, потому, что здесь — не эпизод, а жизнь и личность, которая безжалостно развертывается актрисой как протяженность и как человеческий объем. Улыбка кинодивы, певучая речь, сухая изящная лапка, которой Агнесса то и дело поправляет и без того безукоризненный завиток у виска, повадка красивого безжалостного хищника вроде ласки. Судьба возносит ее наверх и опускает на самое дно, но фирменный цинизм не изменяет героине и актрисе, о чем бы она ни рассказывала — о страстной их с «Мирошей» любви, о путешествии на восток к месту службу через голодный людоедский Казахстан, о том, как взяли ее «Мирошу», или о том, как, будучи уже в лагере, выковыривал из нее, заключенной, неродившегося ребенка лагерный врач и отец этого ребенка… Героиня демонстрирует чудеса выживания. И ясно, что только всепобедительный эгоизм стал его залогом. Лишь один раз Агнессе изменяет невозмутимость, и она выкрикивает, не понимая, о тех, кто написал на нее донос, — соседях по эвакуации, с которыми делила она постель, кров, керосин…
Но Белинская не стремится оправдать. Сложно и трезво сочиненная героиня встает в тот ряд, где уже находится Иван Гайдук, в ряд нераскаявшихся, людей с непросветленным, свободным от чувства вины сознанием.
Персонажи спектакля объединены такого рода соучастием-ответственностью. Лагерный водитель, который не мог не знать. Железнодорожник, который не мог не доносить… Их всех, так или иначе, объединяет тайное и явное участие в кошмаре. В финале об этом говорят сами актеры: кто-то о репрессированных предках, кто-то об устрашающей правде о деде, кто-то о своем желании отстраниться, невозможности принять заданный авторами ракурс взгляда на повесть Гайдара. Авторы спектакля говорят им о нашей общей неизжитой, практически «родовой» травме, которая наследуется, переходит из поколение в поколение. И не будет изжита, пока не будет осознана…
И поэтому в то время, как в Александринском театре идет «Чук и Гек», на первом главном государственном канале выходит сериал об охраннике Сталина… Мы существуем в мире распавшихся связей, несводимых противоречий, бинарных оппозиций, где человек, желая сохранить целостность своего устойчивого, непротиворечиво-ясного мира, сознательно ограничивает себя в знании, идет на добровольную информационную блокаду. Об этом была «Молодая гвардия» Дмитрия Егорова и Максима Диденко, об этом недавний «Цирк» Диденко. И именно об этом — необходимости знать, способности принять и раскрыться навстречу своему кошмару — наиболее объемное и веское высказывание последнего времени — «Чук и Гек» Михаила Патласова.
Май 2017 г.
1 Михаил Патласов: Нам нужна правда о репрессиях // Мой район. 2016. 8 нояб. URL: http://mr7.ru/articles/144988/ (дата обращения 16.05.2017)

















Комментарии (0)