«Простите, это все я». По пьесе Артема Материнского «И., 9 лет».
Центр Вознесенского.
Режиссер Андрей Жиганов, художник Пелагея Щеглинская, композитор Кирилл Широков

Пьеса Артема Материнского — родом из fringe-программы фестиваля молодой драматургии «Любимовка» 2021 года. Тексты фринджа — радикальные по форме эксперименты, которым вполне уместно задавать вопрос: «Пьеса ли это?» «И., 9 лет» автор называет «графическим вербатимом». Драматург и социальный педагог Материнский собирает детские рисунки: принимает их от друзей-родителей, от учеников школы, находит под партами. Для пьесы были отобраны 19 изображений, часть из них — документальные, часть — авторские подражания ребячьим наброскам. Поверх рисунков расположены короткие реплики — ребенок от первого лица рассказывает об отношениях с мамой и своих чувствах.
Из обрывков фраз («Каждый вечер мама не смотрит»; «Простите. Я никому не хотел испортить настроение») и небрежных линий создаетсяобраз хрупкости и боли. Материнский конструирует пространство детского сознания — ранимого и ломкого, внутренне расколотого. Инородным объектом в галерею рисунков врезается печатный лист. На нем — текст эпизода «Всегда можно найти тему для обсуждения»: грубая болтовня женщин в детском саду по поводу нового странно-болезненного мальчика, отец которого покончил с собой. Взрослый уничижительный взгляд вторгается в чувствительно-противоречивую интимную реальность детского. Не разрушая ее, но обозначая конфликт ребенка и мира.
В своем исследовании Материнский пытается отойти от вербальных средств, используя визуальный материал для решения драматургических задач. Как это поставить в театре — вопрос и вызов. Режиссер Андрей Жиганов отвечает на него, но не впрямую. Аудиовизуальный спектакль «Простите, это все я» — художественная ассоциация к пьесе Материнского. По ходу действия рисунки не появляются ни в каком виде, текст — лишь фрагментарно, создатели проекта, отталкиваясь от драматургической структуры, работают над погружением в детское мироощущение и противопоставлением взрослого и детского мира. Композиционно «сознание» ребенка конструируется из трех частей: моноперформанса, аудиовизуальной инсталляции и музыкального концерта.
«Междисциплинарность» здесь — по сути разрывание театрального синтеза. В каждом акте доминирует и акцентируется та или иная составляющая «спектакля»: актер, живопись или музыка.
Перформанс Елизаветы Кашинцевой по выбору художественных средств вступает в неожиданное противоречие с пьесой. Актриса возвращает старающиеся исчезнуть из текста слова и выбирает форму перформативной читки.
На полу белого зала Центра Вознесенского — живой арт-объект. Актриса неподвижно лежит на спине, мы видим только тело перформерки, ее голова скрыта объемной скульптурой — белая яйцеобразная фигура из монтажной пены с изображением зебр и тигров. Изнутри кокона Елизавета произносит монолог, как было обозначено на обсуждении после спектакля, — полуимпровизационный. Высказывание актрисы — реконструкция личных переживаний детства. Елизавета не играет роль ребенка, она остается собой. Звучащий текст вполне относится к жанру автофикшена. Актриса создает художественный текст на основе подлинных историй в форме потока сознания. Имитация мышления ребенка получается двоякой: лексика Елизаветы — взрослая, но монтаж образов и ассоциативное строение монолога — наивно-детские. Девятилетние так не говорят, но девятилетние могут так мыслить. Воспоминания перформерки складываются в нелинейную структуру — начинаясь школьными событиями, они заканчиваются эпизодом из детского сада.
Елизавета, подобно прустовскому герою, блуждает по пространству памяти, цепляясь за триггерные точки. Ее речь — сбивчивая и отрывистая. Голос дрожит, порой темп ускоряется так, что исполнительница почти задыхается. Между текстом Артема Материнского и монологом Елизаветы Кашинцевой выстраиваются тематические параллели. В пьесе герой «И., 9 лет» говорит о телесности, многократно используя слова «уши-рука-шея-нога». Ощущения тела становятся и лейтмотивом актрисы: она рассказывает об уроке в танцклассе, где учительница бьет указкой по бокам живота; о запахе куртки мальчика, в которого она влюблена; о развитии моторики с помощью карандашей и раскрасок; о расчесывании волос мамой. Тактильная память, а также память цвета и света, звука и запаха являются выражением непосредственного восприятия мира. Одновременно монолог актрисы представляет собой обнажением травмы. Однако интимные истории о триггерах раскрывают не столько личность перформерки, сколько типические черты детской природы — ранимость и острую чувствительность. Девочка отчаянно жаждет одобрения: невнимание матери к подарку (набору гелей для душа) вызывает почти истерическую реакцию. В то же время героине совсем не ясно, почему родители сидят дома расстроенные: говорят только, что сын папиного друга Гриша, у которого зубы в шоколаде, умер.
Все триггеры, конечно, о любви: значительная часть монолога — история о влюбленности в одноклассника Антона. Чувства девочки к мальчику — желание слияния и растворения в Другом. «И тут он поднимает взгляд и в самый первый раз мы встречаемся глазами. И у него волосы такие же белые, как у меня. У меня как у него. И я думаю, что на самом деле я пошла не в маму, не в папу, не в бабушку, не в дедушку и даже не в этот большой голубой океан, из которого мы все вышли. На самом деле я пошла в Антона». Счастливые воспоминания монтируются встык с ощущениями тревоги: когда мама завязывает героине банты, девочка предполагает, что ее готовят к торжественной смерти в печи — подобно Гензель и Гретель.
Сложные отношения с эмоциями и драматические столкновения с миром Других травматичны, но перформерка рассказывает о впечатлениях детства не с интонацией страдания. Ее текст, порой иронический, порой лиричный, метафоричный и образный, построен ассоциативно — и ассоциативность провоцирует. Наверное, ценность высказываний «новой искренности» как раз в том, что самораскрытие исполнителя порождает внутреннее самораскрытие зрителя, рефлексия о частном одного становится рефлексией о частных многих.
Перформанс Елизаветы заканчивается резко — актриса вытаскивает голову из кокона и встает, приглашая зрителей пройти в соседний зал. В черном зале кромешная темнота. Зрители рассаживаются на подушки, и начинается вторая часть спектакля — аудиовизуальная инсталляция. По периметру зала располагаются экраны, на них транслируются геометрические фигуры. В контурах фигур по ходу действия будут появляться видео. Первый видео-арт представляет собой человеческий глаз. Взгляд Другого тревожит: после пребывания в обнаженном состоянии воспоминаний о детстве зрителей словно запирают в темный шкаф, в замочную скважину которого заглядывает строгий взрослый. Внешний агрессивный мир вторгается в интимное пространство: на одной стене — дым заводов, на другой — запись с камеры видеонаблюдения в ресторане: сначала пьяные танцы, потом пьяная драка. Аудиосоставляющая действия (автор — Кирилл Широков) — неприятный саунд из скрежетов, скрипов и ультразвука. Даже пейзажи леса или мультфильм про кота, появляющиеся на экране, воспринимаются как фантасмагорические картинки. Музыка доходит до кульминации напряжения и, успокаиваясь, стихает. Медиа-инсталляция сродни печатному листу в пьесе Материнского: злые речи взрослых визуализируются в пугающие пейзажи повседневности.
Драматург Артем Материнский, кстати, участник команды спектакля. А в третьей части — музыкальном концерте — вместе с Елизаветой Кашинцевой выступает в качестве перформера. Материнский и Кашинцева, встав за стойки посередине черного зала, начинают играть концерт. Музыкальные инструменты, выбранные для исполнения, — бытовые предметы родом из детства. Звучат: переливчатый звон металлических вешалок, нервное шуршание фломастера о листы блокнота, шумные вздохи вентилятора, звонкое бряцанье ложки о стакан, жужжание электрической зубной щетки, песенка свистульки, протяжный гласный звук — голос Елизаветы. Концертная программа быта циклична: каждый предмет проигрывает свою партию, уступая место следующему; набор инструментов заканчивается, и последовательность начинается заново. Форма круга — как обозначение времени в детстве, когда дни проходят один за другим без ощущения линейности, без тревожащих категорий прошлого и будущего. Выбор предметов кажется не вполне типически-универсальным, например, в моем доме ни вентилятора, ни электрощетки не было. Но очевидно намерение авторов создать аудиальное ощущение детского повседневного. С точки зрения композиции это очень гуманно: после погружения в черную комнату страха зрителей будто укутывают одеялом — и помещают в безопасное пространство дома, давая возможность поймать ностальгическое настроение.
«Простите, это все я» — чувственная конструкция. Средствами музыки и медиа-искусства, театра и текста команда спектакля строит объемный и противоречивый образ детского мироощущения. В каком-то смысле постановка — иммерсивная, происходит воздействие на все органы чувств зрителя. Катарсиса не будет, но «очищение» — от шаблонов восприятия реальности — вполне достижимо.
Сентябрь 2022 г.






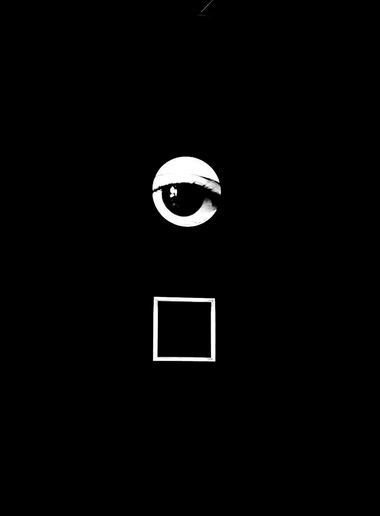







Комментарии (0)