В Малом драматическом собрали вечер памяти Ефима Михайловича Падве.
В день его рождения.
В год юбилея театра.
В том зале, в который он, ученик Товстоногова (уже поставивший к тому времени на Литейном «Веселый тракт» и «Свидания в предместье»), пришел в начале 70-х вместе с легендарным впоследствии директором Романом Савельевичем Малкиным. Тогда в этом областном театре не было ни гримерок, ни туалетов, ни балкона в том зале, где сейчас собрались (Михаил Самочко вспоминал на вечере, как, начиная реконструировать, их, молодых артистов, созывали на бесконечные субботники). Не было и репертуара. И, уж конечно, не было у театра на Рубинштейна никакой славы…
И именно Падве, начиная со спектакля «Долги наши», начал создавать (и создал) театр, который все мы знаем как МДТ. Это так. Об этом говорили все. Это аксиома, хотя многие молодые даже не в курсе, что когда-то, говоря «МДТ», мы не подразумевали «Додин».
Хотя молодого и фактически безработного Льва Додина Ефим Падве позвал туда почти сразу — и тот поставил чапековского «Разбойника» (прекрасно помню эти веселые и легкие сценические игры на качелях), а затем и «Татуированную розу», «Назначение», «Живи и помни», наконец, «Дом». Эпоха Ефима Падве продлилась до середины 80-х («Закон вечности», «Инцидент», «Оглянись во гневе», «Нина», «Господа офицеры»…), Падве позвал на постановку Вениамина Фильштинского («Сын полка»), и потом много в этом театре было связано с Фильштинским. При нем вышли спектакли Евгения Арье, приглашенного еще до Падве, но… Но постепенно МДТ становился домом Додина.
И Падве ушел из МДТ, добровольно оставив свой театр Льву Додину, видимо, понимая крепнущую силу того и не желая раскола, не желая труппе трудного выбора. Прожив жизнь, понимаешь, что это был уникальный режиссерский жест. И он совершил этот жест (режиссер уходит из театра…) дважды в жизни. В 1990-м ушел и из Молодежного, который возглавлял с 1983-го, и назвал имя того, кому хорошо бы этот театр дать, — Семен Спивак (тогда у Спивака был маленький Молодой театр… при Ленконцерте, что ли…).
Скоро Падве пропал. Погиб при загадочных обстоятельствах. Утонул? Утопился? Кто-то подтолкнул падающего? Сам? Он — воплощенный Зилов своего поколения (потому так любил Вампилова, и, пожалуй, ни у кого, как у него, так не получался Вампилов — и «Старший сын», и «Утиная охота», да и «Провинциальные анекдоты» были хороши — на вечере показали их телеверсию с блистательным Николаем Лавровым) — и окончил жизнь, как Зилов. По странному стечению обстоятельств, спустя годы, его любимый актер Евгений Меркурьев, «дядя Женя», который был всю жизнь поразительно предан «Фиме», тоже странно и мгновенно утонул.
Падве чувствовал себя частью потерянного поколения (потому брался за «Фиесту» и «Утиную»), он был чистым неврастеником, хотя и ходил в красном галстуке и зеленом пиджаке, весь такой спортивный и неуязвимый.
Самым сильным эпизодом вечера была последняя телевизионная передача с ним, сделанная Сергеем Шубом. Падве говорит в ней, что не может вписаться в новое время 90-х, что время обманывает, а он, шестидесятник, не может и не хочет обманывать своим театром. Что театр стал не тем, к чему он привык, что… что…
Я с дрожью узнавала эти тексты, потому что однажды, почти целую ночь, в кабинете главного режиссера Падве (в бедном, каком-то колышащемся от ветра помещении Молодежного театра, куда он ушел из МДТ) я уже слушала этот нервно-горячечный монолог…
На вечере все (от Нины Усатовой, Владимира Артемова, Алексея Порай-Кошица и вдовы, актрисы Галины Филимоновой до прекрасного, отчаянно искреннего сына Ефима Падве — Сергея, которого я видела впервые) выступали со своими историями. Хочу рассказать и я. Это один из самых важных опытов в моей профессиональной жизни. И связан он с Ефимом Михайловичем Падве.
В 1985 году я напечатала в журнале «Театр» статью «Звучала музыка на волжском пароходе». Надо сказать, 1985 год — это было еще то время, когда статьи становились событиями. Выходил журнал — и домашний телефон накалялся, звонили люди, мама записывала в мое отсутствие по сорок-пятьдесят звонков… Некоторые коллеги и по сей день помнят какие-то старые тексты (собственно их и помнят, не нынешние же!). В частности тот. Он казался до безумия смелым, вольнолюбивым, он был гласностью, которую еще не объявили официально. Поэтому волей редакции статья была сокращена на треть и изуродована цензурной лопатой. И тем не менее…
И тут в войну со мной, абсолютно истерическую войну, вступил Падве, возглавивший тогда Молодежку. Представляю теперь, как нелегок был для него этот переход, как трудно обживалась периферия далекого сада после театрального «центра» и долгих успешных лет, проведенных в МДТ. И тут — моя «тридцатилетняя», бескопромиссная и совершенно искренняя статья, не оставлявшая камня на камне от его спектакля «Звучала музыка в саду» (а также от «Смерти Тарелкина» Товстоногова, «Трехгрошовки» Владимирова, какой-то эстрадной мути в Комиссаржевке…). Я искренне не хотела принять этой развлекухи, в частности, в Измайловском саду, где еще недавно истово, публицистически работал Владимир Малыщицкий. Время ведь было сумрачное, хотелось правды и только правды, Петрушевской, а не кафешантанной радости…
Потом спектакль «Звучала музыка в саду» любили, он был долгожителем, в ПТЖ о нем пристрастно писал Леонид Попов… А тогда, после моей статьи в «Театре», Падве совершенно сошел с ума. Он обличал меня, молодого и не защищенного ничем и никем критика, на каждом углу, возбужденно клеймил на любой конференции, на телевидении… вообще везде, где сводила нас жизнь. Скажем, конференция «Классика на ленинградской сцене». Выходит Падве и говорит: «Классика… А вот Дмитревская!..» — и, тыча в меня пальцем, захлебывается в возражениях на эту статью.
Он искренне считал меня врагом. Мы сражались на обсуждениях и телевизионных дикуссиях. Я его боялась. Боялась ходить в Молодежный театр. А там тем временем вышла «Утиная охота». И как-то, «огородами», по входному, чтобы никто не заметил и не узнал (а то сразу палец вперед — и: «А вот Дмитревская!!!»), я пробралась на ступеньки темного амфитеатра и посмотрела спектакль.
Это был замечательный спектакль. За всю свою дальнейшую жизнь я не видела такой тоскливой, лирической, по-настоящему депрессивной «Утиной охоты» и такого Зилова, каким был Александр Чабан. Писать о Падве я боялась, но спектакль не оставлял меня. А отделаться от спектакля, который мучит, можно только одним способом — написать о нем. И скоро в «Ленинградской правде» вышла небольшая моя статья.
…В тот майский день светило жаркое солнце и ВТО проводило очередную конференцию «Классика не ленинградской сцене». У дверей Дома актера стоял Ефим Михайлович Падве в черном костюме и галстуке и кого-то ждал. Обогнуть его было нельзя, а войти было нужно. «Я жду вас», — сказал Падве, и виртуальный палец уже заранее воткнулся в мой мозг с криком: «А вот Дмитревская!» Он отвел меня в сторону. «Я хочу сказать, что всегда уважал вас как критика», — сказал Падве.
И с той же искренностью, с которой он верил, что я — враг, он поверил, что я — друг, чуть ли не единственный, кто понимает его (ведь поняла же спектакль!). Я пересмотрела Вампилова, написала большую статью в журнал «Театр» (как она была важна ему в момент звездного полета Додина и МДТ, я поняла только после выхода журнала, когда мне позвонила жена Ефима Михайловича, Галина Филимонова. Она плакала, объясняя мне, что этот текст возвращает Падве к жизни и театру, и это подтверждало: статья в то время могла стать событием). Тот текст мне не стыдно перечитывать и сейчас, он вошел в «Охотничьи книги».
А тогда… Как-то после спектакля мы с Ефимом Михайловичем почти до утра сидели в его кабинете, он рассказывал мне что-то о своей жизни, исповедовался в тоске (не личной, а в тоске поколения, очередного потерянного, о котором он до этого ставил «Фиесту). Эту тоску я понимала, но по здравому профессиональному чувству и молодому эгоизму не хотела разделять. А ему было плохо, он звонил мне иногда по ночам, поговорить, но я плохо поддавалась на откровенность, интуитивно не хотела брать на себя внутреннюю ответственность за его метания, депрессию, неудачи. Это было куда более тяжелым, чем «А вот Дмитревская!». Минуй нас пуще всех печалей…
Скоро Падве ушел из театра, передав его Семену Спиваку. Из рук в руки. Потом он поставил со студентами «Преступление и наказание» и позвал несколько критиков, в том числе меня. Спектакль удачей не был, и все довольно корректно об этом сказали.
А потом Падве исчез. Его искали, не нашли. Лишь спустя месяцы обнаружили тело в Финском заливе. Депрессия поколения оказалась глубоко личной…
Прошло время, и как-то бывший завлит Молодежного (ее что-то я не увидела на вечере памяти, а она была верным Падве человеком) сказала мне: «Вы, Марина, виноваты в его гибели. Когда он звал на „Преступление“, то говорил: „Всех послушаю, а поверю только Дмитревской, она меня понимает как никто“. А вы не похвалили спектакль, который решал его судьбу».
Наверное, дальше можно не комментировать. Она, конечно, говорила неправду и была просто мстительна, припоминая мне еще и статью в «Театре», распуская по городу слухи (совсем недавно «человек со стороны» осторожно спросил меня, правда ли я затравила Падве до смерти, и источник оказался тот же… А ведь прошло 20 лет!). Но для меня «опыт с Падве» остался драматическим опытом на всю жизнь. С творцами нас должна разделять линия рампы. Между нами — только спектакль. «История с Падве» навсегда научила меня держать дистанцию с практиками театра, не сближаться с ними, не нести ответственности за их трудные пути-перепутья, оставаться в своей суверенной профессии, стоять на своем берегу и не переплывать на другую сторону реки…
И вот теперь на вечере Нина Усатова говорила: «Почему мы не сказали ему тогда: не уходите, мы не хотим без вас?..» И все признавались, что мало, мало, мало знали «Фиму», закрывавшегося зеленым пиджаком и кожаной, такой «режиссерской», курткой (нынче все в джемперах и «кенгурухах», а тогда-то были в коже поверх своей, живой…).
И все говорили, что он вообще-то здесь. И стоя аплодировали ему, так любившему выходить на поклоны…






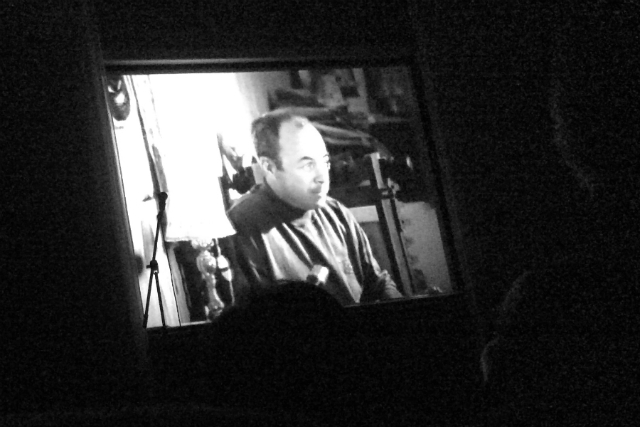
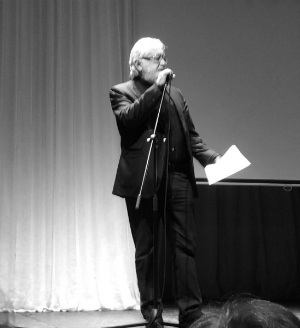



Прекрасный текст, Марина. Еще раз убедивший меня в том, что моя всегдашняя манера с ними не дружить и не сближаться была все-таки правильной.
Мариша! Спасибо.