РГИСИ. Мастерская Геннадия Тростянецкого 2020.
Мастерская Геннадия Тростянецкого парадоксальна. Под руководством мастера с такой мощной энергетикой и ярким узнаваемым стилем из Мастерской, казалось бы, должны выходить режиссеры с очень близкими мировоззрением и сценическим языком. Однако такие непохожие режиссеры, как Александр Савчук, Борис Павлович, Владимир Золотарь, Роман Феодори, окончили именно эту Мастерскую.

Сцена из спектакля «Корова».
Фото — Наталия Росинова.
За время учебы выпускники Мастерской Геннадия Тростянецкого − 2020 успели поработать с разным материалом: начав с собственных биографий, первый курс завершили «Гамлетом» в духе площадного театра и документальным спектаклем на тему селфи «Репост Христа». Спектакль «Андрей Платонов. Корова» в жанре «игры в людей» видели зрители не только Малой сцены Учебного театра, но и Платоновского фестиваля и фестиваля «М. Art. Контакт». На Большую сцену Учебного театра готовились «Маленькие трагедии». К моменту выхода на постановку диплома у каждого уже был опыт сотрудничества с профессиональными артистами в работе над одноактными спектаклями, некоторые из которых вошли в репертуар театров.
Диплом должен был быть поставлен непременно в профессиональном театре. Молодые режиссеры поехали в Волгоград, Пензу, Алматы, Абакан, Уссурийск, Могилев. Кто-то успел выпустить несколько спектаклей, трое (Анастасия Цыпина, Евгений Рыжик и Даниил Блюдов) получили год назад актерские дипломы, репетиции двух студентов (Андрея Богданова и Ильи Бабушкина) заморозила пандемия. Когда они защитят дипломы, мы напишем и о них.
Из девятнадцати человек, набранных в 2015 году, к диплому пришли восемь, но двое не смогли поставить дипломные спектакли из-за карантина. Поэтому речь пойдет о шестерых защитившихся. Мы попросили их рассказать о первых шагах в профессии, сильных впечатлениях за время учебы и собственных представлениях о театре.

Николай Балобан
Я готовился к тому, чтобы стать актером, с детства: в шесть лет пошел в театральную студию, в семь начал читать Станиславского, в восемь, я помню, сидел за столом, мешал ложкой чай и запоминал ощущения. Так что у меня было не обычное детство, у меня была работа над собой. А о режиссуре я задумался только в старших классах. Влюбился в девушку и хотел с ней танцевать на выпускном вечере. И, в общем, не придумал ничего лучше, кроме как самому его поставить. Правда, чтобы она ничего не заподозрила, мне пришлось добавить еще два танца, которые я танцевал уже с другими девушками. В конце концов, мой план сработал.
Когда поступал, то хотел и туда, и туда. Я и сейчас хочу и туда, и туда. Хочу все делать, буквально — все: с удовольствием бы стал стеклодувом; но это неправильно, надо определиться. Наверное. Я все время думаю в связи с этим о Чаплине или Орсоне Уэллсе: удалось же им сочетать режиссерские амбиции и актерские, и при этом хорошо. Не хочу выглядеть, как те актеры, которые зачем-то полезли снимать кино…
Как менялись мои представления о профессии во время обучения? Сильно. Ощущение, будто по моим воздушным замкам проехались трактором. Каждый, кто хотя бы раз общался с Геннадием Рафаиловичем, понимает, что не поддаться его обаянию трудно (если не сказать невозможно). Даже взрослым актерам. А представьте, как сильно он повлиял на молодого — семнадцатилетнего — школяра. Я не хочу вдаваться в подробности, рассказывая о каких-то стадиях изменения, скажу только, что он — один из немногих людей, которые колоссально повлияли на мое формирование. И даже тогда, когда я стараюсь сделать что-то, максимально противоречащее ему или не такое, как у него, когда я стараюсь убежать от его представлений, я все равно остаюсь в диалоге с ним.
Что я хочу делать дальше? Работать. Хочу сделать свой театр. Какой это театр? Такой, в котором мне захочется работать. И неважно, кем: актером или режиссером. Хотя надо бы определиться. Наверное…
ГЕННАДИЙ ТРОСТЯНЕЦКИЙ
Николай Балобан вырос на наших глазах.
Свалившийся в режиссерскую Мастерскую быстрый и счастливый юноша, оттанцевавший «Оливер!» в Музкоме, казалось, был ошеломлен свалившимися на него новыми задачами.
В первом семестре Николай Балобан мучительно пытался сочинить историю своей семьи (задание «Биография») и безуспешно втиснуть ее в необходимые 10 минут.
И тогда он воссоздал случай, происшедший в подъезде их дома с его мамой. Случай, чуть было не закончившийся драматично. Событие было решено наивно, но азартно, с большой долей юмора − хоррор.
Таким образом, «степ бай степ» студент Балобан учился превращать сложные для него задания в п р о с т ы е и исполнимые.

Сцена из спектакля «Русалка».
Фото — Александр Луговой.
Предмет «пантомима» оказался ему чрезвычайно близок, он там лидировал. Способность разговаривать со зрителем языком пластики укрепилась в Николае в работе с педагогом из Дании над японской сказкой.
Стрелеровский Арлекин в экзамене-представлении по сценической речи «Итальянская тарабарщина», англичанин Мортимер, сыгранный на швабском диалекте в «Марии Стюарт» Шиллера, испанец Дон Гуан и Сальери в пушкинских новеллах показали педагогам, что на четвертом году обучения на площадку выходит не только артист-космополит, но и талантливая личность.
При этом − обладающая вполне зримыми профессиональными навыками.
При этом − вполне себя осознающая.
Дипломный спектакль «Русалка» подвел итог всем годам и усилиям обучения Николая Балобана в режиссерской Мастерской.
И одновременно приоткрыл перспективу его режиссерского пути. Многое важное отличает этот спектакль.
Вкус.
Чуткая работа с актерами
Выразительная сценография − от общего решения пространства до самой незначительной детали реквизита.
Хотя н е з н а ч и т е л ь н о г о в этой работе ничего не оказалось.
Текста, вроде бы, мало. Но он точен и − к месту.
Говорю так, ибо спектакль сочинен режиссером, который сподвиг всю, пусть и небольшую актерскую компанию к со-творчеству в поисках верного способа игры. Он следовал методу, лежащему в основе работы Мастерской. Драматичная и вместе с тем красивая история сложена Николаем Балобаном в один акт, что говорит о присущем ему чувстве меры.
Но именно эта событийная плотность обнаруживает и некоторые просчеты, неизбежные в дипломном спектакле. На эти, вполне допустимые, погрешности ему было указано.
Лишь свалившаяся ситуация вынужденной паузы помешала режиссеру внести в спектакль уточнения.
Но это будет сделано, в чем я не сомневаюсь. Как и будет осуществлен эскиз Николая по «Федре» Цветаевой на режиссерской лаборатории Международного фестиваля «М. арт. контакт», куда была приглашена и «Мария Стюарт» Андрея Богданова как представительница молодой питерской режиссуры.
Как не сомневаюсь и в том, что наш институт выпускает студента, который уже нащупал свой неповторимый, отличный от многих, стиль.

Уланмырза Карыпбаев
Если театр начинается с вешалки, то театр в моей жизни начался с Моховой. На первом занятии Мастер сказал нам: «Режиссура − это образ жизни. Думайте на четыре шага вперед. Есть только три критерия: умно, талантливо и благородно. Ошибки и поражения должны быть вашими. Пробуйте! Дерзайте!»
В конце второго курса мне посчастливилось поставить свой первый спектакль на сцене Киргизского национального драмтеатра с народными артистками КР Г. Каниметовой и Т. Бообековой. Мне 20 лет, страшно. На сдачу художественному совету театра в Киргизию прилетел Геннадий Рафаилович, это была самая мощная поддержка на тот момент. Спектакль сдали, и мастер сказал мне, что началось мое плавание!
К началу четвертого курса у всех студентов нашей Мастерской за плечами были постановки в профессиональных театрах, не каждая мастерская может этим похвастаться, а у нас так, и иначе быть не могло! Ошибки и победы наши!
Сейчас служу штатным режиссером в Кыргызском национальном драматическом театре в Бишкеке (Кыргызстан) и в театре «Жас Сахна» имени Байтена Омарова в Алматы (Казахстан). Репетирую в ТЮЗе Бишкека моноспектакль «Мать», посвященный 75-летию Победы. Сейчас все, над чем я работаю, связано с темой борьбы, в первую очередь борьбы человека с самим собой.
Когда через несколько мгновений каждый из нас выйдет на отдельную беговую дорожку, появляется жуткое желание вернуть годы учебы обратно. Думаю, это желание будет преследовать всю жизнь.
Спасибо родной Моховой! Нашим Мастерам! Учителям!
ГЕННАДИЙ ТРОСТЯНЕЦКИЙ
Говорить о спектакле Улана Карыпбаева следовало бы подробно и скупо.
И найти для этого совершенно безыскусный стиль. Такой, чтоб он отвечал теме самого спектакля.
Спектакль поставлен по повести Чингиза Айтматова.
Чингиз Айтматов знает, по чем фунт лиха: его отца, наркома замледелия Киргизии, светлого ума человека, расстреляли в ноябре 1938 года. Но он также знает, и по чем «пять пудов любви»: когда умирала его Бюбюсара, он ревом рыдал, не скрывая перед людьми своего неутешного горя.
«Была в моей жизни встреча, осветившая всю мою жизнь…» Про что и повесть «Джамиля». Про что и спектакль.
Трудно найти безыскусные слова, да и любые слова растворяются в последних звуках спектакля, когда степной ветерок нежности едва колышет бескрайнее пшеничное поле, в колосках которого теряются хрупкие фигурки Данияра и Джамили.

Сцена из спектакля «Джамиля».
Фото — Архив театра.
Все образно. Сильно. И одновременно − легко.
Никакого повествования − живая стихия молодой актерской жизни.
И одновременно все — повествование.
«Джамиля» — рассказ паренька о любви, вспыхнувшей на его глазах. Сеит готовится стать художником. И сам спектакль — рассказ киргизского паренька Уланмырзы, который готовится стать режиссером.
Никакого следа сомнений: в каждом эпизоде − след ученичества.
О, великий парадокс искренности! Именно штрих ученичества делает эту работу столь непосредственной и воздушной. Ученичества в том, цветаевском, поэтическом смысле.
Придавленный увиденным немолодой зритель крупного телосложения, вращая белками и прерывая хриплое дыхание, рычал: «Понимаешь, ты… ты понимаешь… понимаешь… ты… Чтоб ты пропал!»
«Урматтуу тынчын, сабырдуу болгула!» − отвечал ему наш дипломник, что означает в переводе с киргизского «Успокойтесь, уважаемый, успокойтесь!».
Звучащая со сцены казахская речь оборачивалась для меня каким-то особым смыслом. Казалось, эту историю озорно разыгрывают казахские скоморохи, а верховодит бойкая Джамиля.
Казалось, специально ломают язык, горланят, взваливают мешок семи пудов зерна на плечи израненному на фронте Данияру, опять хохочут, скачут по кочкам на телеге, горланят…
…пока вдруг время не остановилось, и пальцы Джамили прикоснулись к руке Данияра… коснулись его худых плеч, острых локтей, глаз…
…ни единого слова бесконечно долго… мир остановился… исчез… только двое впервые в этом мире… юноша и девушка… впервые коснулись друг друга… бесконечно долго… без единого слова… все впервые… впервые…
Этому нельзя научить ни в какой мастерской.
Уланмырза Карыпбаев приехал в Питер из Бишкека.
Он вернулся на Кыргызскую Землю, которая его напитала. Как бы держа отчет, он поставил там спектакль в Кыргызском театре. Потом еще один.
Потом его пригласили в Казахский театр в Алматы, где он поставил дипломный спектакль по повести своего Чингиза Айтматова.
Отныне качества, присущие личности автора повести, я в полной мере буду относить к личности автора спектакля − Уланмырзе Карыпбаеву.
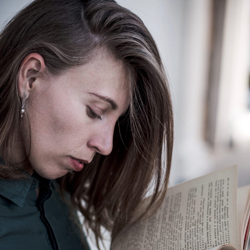
Евгения Колесниченко
Мне кажется, что все самые важные повороты в моей жизни произошли волею случая. Как и в стены института на Моховой, так и в профессию режиссера меня привела цепь удачно сложившихся обстоятельств. Я счастлива, что сумела быстро на них откликнуться. Чувствую, что и сейчас, когда студенчество в моей жизни вышло на финишную прямую, снова судьба закрутит и завертит меня, а я доверюсь интуиции и буду хватать только самое лучшее.
Все началось в 2007 году. Тогда я жила в Севастополе, училась в школе, профессионально занималась плаванием, ходила в художественную школу и собиралась поступать на факультет иностранных языков. Сходила в театр на спектакль по ростановскому «Сирано»: как сейчас помню, это были гастроли Ярославского театра им. Волкова и мой третий за всю жизнь поход в театр. Две недели я мечтала стать актрисой, и вдруг случайно наткнулась в школе на объявление о наборе в театральную студию. Мама отвела меня за руку: я очень хотела, но очень стеснялась. После прослушивания меня взяли. Кстати сказать, за последние четыре года РГИСИ окончили еще шестеро ребят, которые так же, как и я, наткнулись тогда на это объявление.
Когда вдруг мой полуостров стал другой страной и открылись двери в мир крупных театральных школ, я ухватилась за этот случай, бросила филологию и поехала в Питер поступать в Мастерскую Геннадия Рафаиловича, хотя тогда еще не знала, кто это. На первой же консультации меня «слили». Я нагло продолжила ходить на консультации, в приемной комиссии мне говорили: «Вы думаете, это что-то изменит?» Как оказалось, да. Встретившись с мастером 7 июля 2015 года, больше я с ним не рассталась. Он мне поверил.
На Моховой я открывала для себя важных авторов. В первую очередь это Шекспир. С первого курса каждый из нас переиграл всех персонажей и переставил все сцены из «Гамлета». У нас в Мастерской ходит шуточка, что каждый студент Тростянецкого должен поставить эту пьесу. Шутка шуткой, но трое уже поставили. Вторая фамилия — Брехт. Это отражение моей гражданской позиции, это моя суть. Третий — Андрей Платонов. Я работала над его рассказами «Корова», «Юшка», «Железная старуха», первый из которых стал курсовым спектаклем. Мы с Камой Хусаиновой его поставили и, благодаря мастеру, доброжелателям и институту, свозили и на «М. Art. Контакт» в Могилев, и на Платоновский фестиваль в Воронеж. Четвертый автор — Пушкин. Работа над «Маленькими трагедиями» была сродни Гамлету. И пятая фамилия — Дурненковы. Это сфера моих размышлений.
Если описать, как менялось мое представление о профессии за время учебы, то это похоже на вправление вывихнутых костей. Мое стереотипное, «капустниковое» представление о театре выруливало на тропу профессионального искусства с помощью ключевых впечатлений за время учебы. Одно из них, например, ошарашило меня на третьем курсе, когда я работала над «Барабанами в ночи» Брехта. Тогда я много читала, смотрела о войне. «Цинковые мальчики» Алексиевич перевернули мое отношение к литературе. Помню, я пару месяцев ходила и думала, зачем «Война и мир», зачем «Ромео и Джульетта», если есть эта книга, и если это все было на самом деле.
Я хочу, я мечтаю быть в профессии, ставить хороший материал, работать с классическими произведениями. Меня манят Достоевский и Булгаков. Черт его знает, получатся ли они у меня, но я хочу рискнуть. Не знаю, какой тип театра предпочитаю, да любой — лишь бы интересный, красивый и про человека. Я доверяю интуиции и своему сердцу, они меня привели в сегодня. Поэтому и строить свое завтра я буду, прислушиваясь к ним.

Сцена из спектакля «Посчитай, Господи».
Фото — архив театра.
ГЕННАДИЙ ТРОСТЯНЕЦКИЙ
Женя Колесниченко сделала спектакль, который выходит за рамки чисто художественного произведения. Это − социальная акция. Документ сострадания.
Абакан − то самое «Далеко от Москвы».
Но тема войны здесь, в маленькой Хакасии − н е д а л е к о о т п а м я т и каждого ее жителя.
Ольга Михайловна Компанеец, дочка медсестры военного госпиталя, рассказала Жене все, что рассказывали ей мама и прошедший войну отец. Документы из Национального архива республики дополнили этот рассказ. Солдатские письма-треугольники были прочтены всеми участниками актерской команды, которую собрала Евгения Колесниченко в Абаканском драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова.
Из этих материалов молодой актер Артем Казюханов, выпускник Мастерской А. М. Зеланда, написал пьесу-монолог военного корреспондента.
В этот монолог вторгаются воспоминания солдатиков, медсестер, военврача. Возникают диалоги о в о й н е и н е о в о й н е − о вроде бы незначительных бытовых пустяках, щемящих подробностях человеческой жизни, которые бьют сознание, закрашенное героическим пафосом, наотмашь.
Евгения Колесниченко приехала учиться в Питер из Севастополя.
Члены ее семьи, наши с о в р е м е н н и к и, знают, что такое военные действия, к сожалению, не понаслышке…
Таким образом, к этому спектаклю можно относиться как к безусловному монологу г р а ж д а н и н а Евгении Колесниченко.
Но это также есть х у д о ж е с т в е н н о е высказывание режиссера Колесниченко: можно говорить об авторском театре.
Шесть молодых выпускников 2019 года мастерской В. В. Норенко вошли в актерскую группу спектакля. Нынешнюю основу Абаканского театра составили выпускники ЛГИТМИКа курса С. В. Гиппиуса.
Налицо — преемственность и художественной памяти.
Документ требовал особого способа существования актеров.
В большей степени он был воплощен в монологах, в диалогах же сказалась все-таки сложность поставленной перед всеми задачи: как молодым актерам вести общение друг с другом в н а с т о я щ е м, свидетельствуя при этом о факте п р о ш л о г о?
Мы-то знаем, что выполнение э т о г о не всегда под силу опытнейшим актерам и режиссерам…
А вот решенные совсем не в «бытовом» стиле − в особой пластике и звучании − лирические сцены воспоминаний героев действительно становились подлинным д о к у м е н т о м взволнованности т е х л ю д е й. Поразительная особенность актерской памяти.
Поставившая пьесу-монолог режиссер Колесниченко умеет слышать и расположена к диалогу: в дипломном спектакле своего сокурсника «Конек- горбунок» по его просьбе она стала автором инсценировки; в объехавшей международные фестивали курсовой работе «Корова» по рассказу А. Платонова она была сорежиссером, да еще и исполнительницей главной роли; сразу после третьего курса здесь же, на абаканской сцене осуществила постановку современной пьесы вместе с однокурсником Никитой Трофимовым.
Спектакль «Посчитай, Господи!» сам свидетельствует о том, что Евгения Колесниченко в своих работах осваивает не только профессию, она осваивает и серьезный диалог −диалог со Временем, а это − важнейшее качество любого режиссера-художника.

Марина Королькова
Я мечтала стать музыкантом, играла на домре, занималась вокалом и одевалась в крутые вещи (мысленно придумывая себе клипы). Но не пошла дальше учиться музыке, а отправилась на актерский факультет.
Не могу сказать, что это было ошибкой, я рада, что есть этот опыт. Но я стала думать, как объединить музыку, актерское и художественное пристрастия (я обожаю рисовать). Режиссура объединила все, что я так люблю, и позволила мне остаться собой.
Когда я пришла в институт, то думала, что ошиблась и не понимаю ничего, потому что мои представления об этом деле начали разниться с реальностью. Но по ходу учебы и особенно после знакомства с профессиональным театром (мастер подарил нам такую возможность еще на третьем курсе, отправив всех на постановки) я стала понимать, что все не так уж смутно и туманно, и в общем, это та профессия, которая имеет четкие границы. Просто наш курс начал этот путь с начала, с чистого листа — и сейчас я понимаю, что в этом есть особая радость. Не у всех людей появляется возможность отбросить «багаж жизни» и наивно и непосредственно подойти к вопросу обучения, «обнулиться», так сказать.
За годы обучения больше всего меня всегда впечатляли люди. Я не знала, что, владея волшебством, возможно жить просто, как все, ходить по улицам, дышать. А выяснилось, что волшебники «замаскировались» среди нас. Одним из таких людей для меня стала Надежда Александровна Маркарян. Это необыкновенная женщина, которой удавалось на каждом занятии погружать меня в разное время и эпоху, в мысли и события, в музыку и прозу мирового и частного характера, в нюансы мироздания. У меня такое ощущение, что я совершала огромное духовное путешествие на каждой ее лекции — а в итоге остался богатый, огромный мир внутри, из которого я, как из копилки, могу вынимать сокровища, когда встает необходимость. Это «кладовая счастья», в которой «продовольствия» надолго.
Не менее важными и полезными для меня в личностном плане стали репетиции с мастером на площадке. Каждый раз, будучи в «актерской шкуре», я становилась инструментом в его руках, которым он чутко управлял. Это удивительное качество режиссера, так работать с артистом — растворяться в нем. И это удивительные ощущения, когда тебя ведут, ощущения, которыми я теперь всячески стараюсь делиться со своими актерами на сцене.
Мне близок театр художника, театр Дмитрия Крымова. Я любила его еще до переезда в Санкт-Петербург, когда жила в Москве. Еще, конечно, Юрий Бутусов. Этюдная структура его спектаклей, смена картин, переходы между планами и эпос мысли воодушевляют меня на протяжении многих лет. Для меня его спектакли — живой учебник режиссуры.
Я очень четко внутри ощущаю свою стезю, дорогу, по которой нужно идти, чего бы это ни стоило. Материала на примете много, он живет внутри меня, дышит и ищет возможности ожить. Я бы хотела ставить произведения, которые вскрывали бы суть сегодняшнего дня, на злободневную тематику. Будь это детское произведение, современность или классика, неважно — везде я буду стараться создавать живых людей и образы, которыми они ограждают себя от окружающего мира.
От себя я бы хотела простоты и доступности языка в сочетании с пронзительностью. Может быть, сейчас нескромно скажу — но мне кажется, я двигаюсь в этом направлении.

Сцена из спектакля «Одиноким предоставляется общежитие».
Фото — Дмитрий Журкин.
ГЕННАДИЙ ТРОСТЯНЕЦКИЙ
Марина Королькова решает поставить свой дипломный спектакль в театре родного города − в Пензе.
На стол главному режиссеру кладется пяток пьес выдающейся русской классики.
В ответ стремительно летит предложение поставить пьесу − победительницу Международного конкурса детских пьес, объявленного год назад самим театром.
Выпускница РГИСИ в замешательстве.
Душа − на разрыв.
Пара бессонных пензенских ночей.
Из начала в конец и из конца в начало шестнадцать раз прочитана пьеса.
Откинутая назад голова. Сжатые кулаки. И вдруг!
О, это великое «вдруг»!
Выпускница прислушивается к мелькнувшему чувству… Сердце начинает биться размеренно. Дыхание нормализуется. Пачка зачитанных листов плюхается на стол. И решительно прихлопывается хрупкой ладонью.
«Героя зовут К а р л… А моя фамилия К о р о л ь — к о в а… Это знак!»
Колеса поезда Пенза − Москва отстукивают ритм симфонии радости.
«Номер поезда 052 М… М… М… Марина! Это знак!» Результаты встречи с московскими драматургами были предрешены — ими приняты все замечания и поправки!
Название пьесы играет с названием знаменитого фильма «Одиноким предоставляется общежитие», а имена главных героев и сама ситуация опрокинуты в известную сказку Астрид Линдгрен.
Только здесь вместо Карлсона − Карл.
Но тема-то близкая-близкая… ближе некуда:
«Часто… слишком часто… самыми близкими… становятся люди… близкие по родству душ… и далеко не близкие… по крови…»

Фото — архив курса.
В лучших традициях криминального жанра начинаются репетиции с актерами.
Опаска и осторожность: режиссер-то молодой! Так было вначале.
Но стук колес «поезда радости 052М» все отчетливее проступает на репетициях, и у всей группы, наконец, «поехала крыша» в нужном направлении и с нужной скоростью!
Малая сцена Пензенского Государственного драматического театра им. Первого Наркома просвещения РСФСР А. В. Л у н а — ч а р с к о г о давала режиссеру малое пространство для воплощения грандиозного замысла, но сооруженный на крошечных подмостках ч е р д а к, сжимая энергию поединков весьма амбициозного подростка и «бомжа» по имени Карл, давал ему еще большее напряжение, заставляя актеров даже несколько переигрывать, выталкивая крышу режиссерского замысла прочь.
Финальный выстрел милиционера вслед «бомжу-преступнику», улетающему на «велолете», режиссер М. Королькова решает решить в стиле режиссера А. Хичкока.
Карл улетает в окно… в ночь… светит Л У Н А, а Ч А Р Ы, окутывавшие оставленный Карлом чемодан, улетучиваются, открывая тайну этого «волшебного сундучка».
Парнишка, ставший Карлу близким по духу, медленно открывает к р ы ш к у, и сотни писем, разлетающихся по сцене и залу, шелестом своим шепчут зрителям, что добрый друг Карл-Карлсон, трагически расставшийся с близким ему по крови собственным сыном и готовый протянуть руку дружбы каждому из нас, быть может, живет совсем рядом, под крышей нашего собственного дома.
На втором курсе Марина Королькова решительно отстояла право на свое решение в сказке про Аленушку и Козленка; остро и в совершенном гротеске сыграла Невесту Летчика в абсурдистском опусе, вызвавшем восторг на режиссерском конкурсе в ГИТИСе; лирическая героиня в платоновской «Реке Потудань» закрепила за Мариной славу курсовой актрисы-звезды, а сделанная к окончанию 4-го курса одноактовка по А. Вампилову распахнула ее д о м о к н а м и в режиссерское поле.
И вот этот спектакль − «Одиноким предоставляется… к р ы ш а» − достойно венчает здание, построенное ею самой, «Школы драматического искусства», порог которой она когда-то мечтала переступить.

Никита Трофимов
Я пришел в эту профессию не с первого раза и не сразу. Сначала я «провалился» в Москве, через год все-таки поступил на режиссера кино, но, проучившись три года, ушел оттуда, будучи уверенным, что это не мое. Второй раз я успешно провалил поступление после службы в армии, год проработал в кино и, наконец, поступил в РГИСИ, в Мастерскую Г. Р. Тростянецкого, которую сейчас и оканчиваю. Теперь я понимаю, чего мне не хватало во время первого обучения и что я нашел здесь: очень многое зависит от мастера.
За время обучения мне удалось поработать над Софоклом, Шекспиром, Платоновым, Дурненковым, Прилепиным и над несколькими сказками.
Мое первое представление о режиссуре (тогда мне было 19 лет, и я поступал первый раз) — это интерпретаторство, поиск в материале того, чего раньше никто не находил. Я был уверен, что моя задача как режиссера — удивлять новыми прочтениями, необычными решениями. Сейчас, выпускаясь, я считаю, что режиссура — это возможность поговорить. Поговорить о том, что непосредственно волнует меня и, надеюсь, волнует других людей.
ГЕННАДИЙ ТРОСТЯНЕЦКИЙ
Спектакль Никиты Трофимова сделан по заказу театра.
То есть это − заказной спектакль.
В этом его особенность. И в этом же его, Никиты Трофимова, основное испытание.
Прекрасный опыт входа в профессию!
Воистину − только в профессиональном театре и стоит ставить дипломные работы: дипломник Трофимов прошел абсолютно все творческие стадии и все технические этапы создания спектакля. Хотя он не впервой на профессиональной сцене − сразу после третьего курса репертуар Национального театра Хакассии в Абакане пополнился «Тремя красавицами» В. Красногорова в его постановке.
Но там он был сорежиссером Евгении Колесниченко, тоже нашей студентки. А здесь − абсолютно самостоятельный постановщик, организатор, педагог, технический консультант.

Сцена из спектакля «Сказка о Коньке-Горбунке и Иване-дураке».
Фото — архив театра.
В этот раз Е. Колесниченко явилась автором инсценировки «Конька-горбунка» (сказка П. Ершова) − план эпизодов ей предлагал режиссер Трофимов. Разработка сценического пространства и световой партитуры − тоже за Трофимовым.
Постановочная часть отказывается изготавливать Жар-Птицу и гигантского Осьминога, ссылаясь на отсутствие опыта, − Никита садится за чертежи, и значительнейшие для замысла режиссера сказочные существа в результате появляются на сцене.
Точно распределены роли, разумно организованы репетиции − в этом первейшем для режиссера деле Никита Трофимов, что называется, на высоте. Каждая репетиция начинается с речевого и пластического тренинга.
Работу отличают изобретательные мизансцены, стремительность действия, пластическая характеристика персонажей, смена атмосфер, особенно подчеркнутая яркой световой партитурой, − все это дает внятность истории и, конечно же, требует уточнений.
Но уже сейчас о ч е в и д е н активный отклик зрительного зала, а зрители − дети.
Адрес спектакля конкретен, ибо воплощаем в каждой сцене верно найденным в большинстве эпизодов способом актерской игры.
Можно говорить, что спектакль решен в лучших традициях театра юных зрителей, но таковой отсутствует в городе Уссурийске. И мы не удивимся, если этим спектаклем внутри Государственного театра им. В. Ф. Комиссаржевской начнет жизнь Забайкальский театр юного зрителя, и его основоположником явится выпускник нашей Мастерской Никита Трофимов, которого мы поздравляем еще и с тем, что поставленный им «Гамлет» в Екатеринбургском театральном институте отправляется на фестиваль в город Брно.

Камиля Хусаинова
Пять лет обучения были для меня увлекательным путешествием, и каждый день происходило что-то новое и удивительное. Театральный мир представлялся мне огромным океаном, он открывал мне свои секреты. И вот, по прошествии пяти лет обучения могу сказать, что уже не просто барахтаюсь в набегающих волнах вдохновения, а могу править своим кораблем, и за это огромная благодарность мастеру, который так тонко вложил в нас любовь к театру и понимание законов сцены.
Учеба не была тяжелым трудом, она скорее походила на игру, азартную и веселую. Формы игрового театра были включены в программу обучения: клоунада, пантомима, импровизация. Все это впоследствии помогло нам в работе с литературным материалом. Шекспир, Пушкин, Платонов — авторы, с произведениями которых курсу посчастливилось соприкоснуться. По рассказам Платонова на третьем курсе нам случилось сделать спектакль «Андрей Платонов. Корова», который впоследствии был приглашен на Платоновский фестиваль в Воронеж.
На наших показах и репетициях почти всегда были приглашенные гости — зрители, мне это впоследствии очень помогло избавиться от страха ошибиться или кому-то не понравиться. Было ощущение процесса, когда маленькое театральное чудо свершалось прямо на глазах у изумленной публики. А если что-то шло не так, то всегда был мастер, который на твоей стороне и готов помочь.
Сейчас, заканчивая обучение и работая в профессиональном театре, больше всего хочу сберечь это ощущение творческой свободы, когда знания, осторожно вложенные в тебя, не ограничивают интуицию, а наоборот, помогают ей искать решения спектаклей.
ГЕННАДИЙ ТРОСТЯНЕЦКИЙ
Говорить о спектакле Камили Хусаиновой следовало бы кратко и скупо.
И найти для этого суровый стиль.
Чтоб он отвечал теме самого спектакля.
Спектакль поставлен по рассказу Василя Быкова.
Василь Быков знает, по чем фунт лиха.

Сцена из спектакля «Желтый песочек».
Фото — Мариам Табагари.
Не только лиха Кировоградской операции 1944 года, когда очередью − в живот и в ногу.
Но и лиха 37-го, когда свои − своих.
Про что и рассказ.
Про то − и спектакль.
Как найти слова для сурового стиля, когда на тебя обрушивается мощная театральность?
Все образно. Сильно. Никакого повествования − подлинный драматизм. Скажу более: здесь проступает жанр под названием трагедия.
При этом решенная, повторяю, абсолютной театральной образностью. Никакого следа ученического понимания конфликта − зрелая работа.
Придавленный увиденным директор Могилевского театра глухо произнес: «Такая страшная тема, а зрительский лом!»
Звучащая со сцены белорусская речь придает зрелищу некий особый смысл, витающий над событиями происходящего. Смысл, не вполне мною еще формулируемый. Он близок к понятию «обобщение». Этому нельзя научить ни в какой мастерской.
Камиля Хусаинова приехала в Питер из Минска.
Она вернулась на Белорусскую Землю, которая ее напитала.
Как бы держа отчет, поставила дипломный спектакль, превратив прозу Василя Быкова в театральную поэзию, полную живой страсти и собственного жизненного опыта.
Василь Быков − великий летописец белорусского лиха. Его талант всегда шел рядом с человеческим достоинством и честью.
Отныне все эти три качества, присущие личности автора повести, я в полной мере буду относить к личности автора спектакля − Камиле Хусаиновой.

Фото — архив курса.
Студентов опросила Дина Тарасова








Здорово! По-хорошему, но завидую! Не всем везёт на педагогов, цените!. У меня был прекрасный педагог — Галанин Владимир Александрович, я плакала от его переделок моих этюдов, но именно его я вспоминаю с благодарностью, он занимался с нами три неполных года. Цените, молодые! Дальше вам придётся идти самим, но чем дальше, тем чаще будете вспоминать своих педагогов, и их слова, наконец, начнут до вас доходить. Дерзайте! Времени не так много, как кажется. Удачи!