С 8-го по 14-е октября 2010 года в Перми пройдет Международный фестиваль-форум
«Пространство режиссуры\». Фестиваль состоится при поддержке Посольства Франции в России, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края и Альянс Францез-Пермь.
Организатор фестиваля — Пермский академический Театр-Театр.
«Пространство режиссуры» проводится в Перми во второй раз (впечатления о первом фестивале читайте в № 54 «Петербургского театрального журнала»).
В 2010 году фестиваль входит в официальную программу Года России-Франции, поэтому в центре внимания форума — французский театр, а его программа сформирована селекторами-представителями ключевых театральных профессий (режиссер, актер, критик, драматург и продюсер) двух стран.
Выбор актрисы Валери Древиль — спектакль «Наш террор» (Театр D’ores et déjà, постановка Сильвана Крезево), выбор критика Жана-Пьера Тибода — спектакль «Хиросима, любовь моя» (Театр Види-Лозанн, постановка Кристин Летайер), выбор продюсера Эдуарда Боякова — спектакль «Пиноккио» (ко-продукция московского театра «Практика», Центра им. Вс. Мейерхольда, театра «Сцена-Молот», французского театра Compagnie Louis Brouillard и Французского культурного центра в Москве при поддержке Culturesfrance).
Кроме французских театров на фестивале в Перми будут представлены лучшие постановки из Израиля и Латвии. Выбор Бориса Мильграма — спектакль «Реквием» (Камерный театр, Израиль, режиссер Ханох Левин), выбор Дмитрия Чернякова — спектакль «Соня» (Новый рижский театр, Латвия, режиссер Алвис Хеманис). Критик Олег Лоевский представит спектакль «Жизнь человека» (Пермский академический Театр-Театр, режиссер Борис Мильграм).
Также в рамках «Французской программы», при участии экспертов из России и Франции, состоятся лекции и дискуссии, посвященные актуальным проблемам профессионального театра.


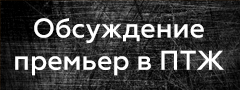





8 октября. Первый день фестиваля.
Приехали в Пермь. Люблю «дежавю»: такое же, как два года назад солнце днем и морозец ночью, та же гостиница и – не поверите – тот же номер с Амуром и Психеей на стенке. Увидела их милые мордашки и решила, что должно повториться профессиональное счастье двухлетней давности в этом же пространстве. Режиссуры.
В прошлый раз собрался почти весь режиссерский цех, плечом к плечу. Нынче «их мало, избранных»…
Не торжественно и не очень внятно открыли с утра французскую выставку, посвященную Арто. В прошлый раз в центре был Станиславский, «обсмотренный» с разных сторон, в этом – несчастный Антонен, которого Б. Мильграм упорно именует Антуаном, слив, таким образом, Андре и Арто в один флакон, из которого пахнет французским театром.
Началось с лаборатории «Молодая режиссура и профессиональный театр», которую проводит друг всех детей О. Лоевский, но в ней на сей раз – новшества. Не разные отрывки – что пожелаете. Курсу Е. Каменьковича-Д. Крымова было предложено выбрать что-то французское, они выбрали пьесу Матея Вишняка «История медведей панда, рассказанная одним саксофонистом, у которого имеется подружка во Франкфурте», поделили между собой сцены путем жеребьевки (каждый режиссер в паре с художником) – и разбрелись по разным пространствам театра.
Нас водили по разным помещениям, от сцены к сцене. Но произошло поразительное событие: у ребят, не сговаривавшихся о концепции, получился цельный спектакль. Пьеса о том, как проснувшийся утром Он обнаружил в постели/своей комнате Ее и упросил ее приходить к нему 9 ночей. Это в конце мы поймем, что 9 ночей он расставался с душой, она приходила к нему последние разы, а сперва (первую сцену делали И. Ротенберг и В. Останькович) в вестибюле театра, за стеклом входных дверей, как в аквариуме, страдал похмельем очень плотский смешной герой. Все начиналось как комедия. Здравствуй, Куни!
Второе свидание – в комнате, заваленном желтыми листьями (авторы отрывка А. Размахов, Ф. Виноградов) – было пространством чистой лирики, этакая любовь под французский шансон (исполнители уже другие, плотскости меньше).
Потом мы перешли в фойе, в одном углу которого режиссер А. Логачев и художник П. Гришина оживляли многофигурные воспоминания героя о детстве, в другое А. Шляпин и А. Ловянникова прикатили шкаф, из ящиков которого Он доставал разные варианты диалога с Ней (актеры в каждом эпизоде менялись), история явно теряла земное притяжение.
Дальше на Сцене-Молот нас ждал скрипичный оркестр, под который душа героя раздваивалась и отлетала (делали эпизод А. Галушин и В. Соколова), и в финале, толкаясь в каком-то закулисном проходе, в итоге наших блужданий, мы слышали крики соседей героя, что, мол, надо взломать дверь потому что уже запах идет, 9 дней человек никому дверь не открывал – и вот…
Смена героев дала вариативность, актеры играли отлитчно, все пары режиссеров-художников продемонстрировали умение рождать в эпизоде плотную фактуру-среду, играть с ней, соответствовать ей.
В общем, что?
В общем, получился спектакль. И его точно надо оставлять в репертуаре, чтобы пермские зрители ходили по закоулкам следом за героем и их поджидали бы такие же содержательные сюрпризы и формотворческие радости.
Я поздравляю этот курс! Запомним их имена, тем более – лабораторные показы всегда круче первых спектаклей, сделанных в театрах… Увы.
Ну, а вечером были «Вороны» Ж. Наджа – устарелый пафосный, многозначительный перформанс, на котором лично я боролась со сном.
Поэтому – спокойной ночи. Завтра рано вставать.
О «Вороне» Ж. Наджа
Сам создатель «Воронов» (и одновременно исполнитель) Надж назвал свое зрелище «перформансом», но играет его в пространстве театра, в зале примерно на семьсот мест. Зрители лишены возможности свободно передвигаться, как это было бы в другом пространстве, более пригодном для этого жанра искусства. Кроме того, перформанс предполагает импровизацию, а в «Воронах» все продумано до мелочей.
Но если назвать это спектаклем?
Теоретик театра Ю.М. Барбой как-то пошутил: «Если режиссер сочинил такой гадюшник, где все со всем в драматических отношениях — он гений. И все тут!» Ж.Надж — антигений, потому что строит спектакль по принципу созвучия: он не вступает ни в какие отношения ни со зрительным залом, ни с музыкантом, ни с музыкой. Говорить об отношениях между исполнителем и «ролью ворона» тоже не приходится: Надж — сразу ворон, сразу изгоняет из себя все человеческое. Единственные изменения, которые происходят на протяжение спектакля с «ролью» — это более быстрое повторение одних и тех же комбинаций движений. Нет единого развития действия: спектакль распадается на пять несвязанных между собой кусков: правила игры, заданные в первом, отменяются в следующем.
Возможно, здесь нужно говорить о феномене под названием «постдраматический театр». Но в любом случае, это зрелище не включает зрителя в свой мир,и, намеренно отстраненное от него, не будит переживаний и даже не доставляет дискомфорта, за исключением некоторых особенно диссонирующих музыкальных пассажей. Вздрогнув, зрители продолжают дремать.
9 октября.
Когда по 12 часов варишься в фестивальном бульоне, к ночи ты уже клецка, мало способная к анализу искусства и действительности…
Вчерашний день (если не считать утренней лекции о тренинге Ю. Альшица и вечернего спектакля) был посвящен Арто (на прошлом фестивале ключевой фигурой был Станиславский). Семинар из выступлений В. Семеновского, В. Максимова, И. Азеевой, г-на Фо, хранящего фонд Арто. Потом фильм «В компании Антонена Арто».
Аудитория разношерстная, кто-то изучал Арто, кто-то не знает ничего, поэтому адрес мероприятия оказался «на деревню дедушке». Зачем нынешним режиссерам Арто, выяснить не удалось, дать им четкое представление об Арто было в пределах этого формата невозможно. С моей личной точки зрения абсолютизация Арто – не самое полезное для безумного времени дело.
Но интересно было. И стало понятно, что посвященный Арто «Ворон» никакого отношения в Арто не имеет….
А вечером – спектакль Камерного театра из Тель-Авива «Реквием».
Это пьеса Ханоха Левина и его же постановка двенадцатилетней давности: смертельно больной, он перелагал белым стихом чеховскую «Скрипку Ротшитльда», «В овраге» (один мотив), «Тоску» и создал прелестный, наивный спектакль, безумно красивый, уводящий в сферы культуры (тут вам и Тышлер, и Брейгель, и цирк, и примитивизм, и воспоминания о «Габиме», и что-то от Михоэлса-Лира), но рассказывающий о смерти и вечном пути к ней по голой земле.
Недавно мы беседовали с Е. Арье для нашего следующего номера (№ 62), да и на встрече со зрителями в Александринке он говорил, что кроме «Гешера» в израильском театре ничего нет, а и был только Ханук Левин. Жаль, что нам не привозили это раньше, спектакль дает возможность понять что такое культурное еврейское сознание, как оно соединяет корни и крону: ветхозаветные ритмы, почти молитву, песню, в которую превращены тексты Чехова (тоже часть культурного сознания), вечную еврейскую печаль, ставшую почти цирковым номером (герой-гробовщик и его жена присыпаны белым — как клоуны, их существование эксцентрично, они — лишь живописные элементы общей композиции), представление о пустынной земле, по которой скитается человечество уже гораздо более 40 лет, — и чехорвские, михоэлсовские и и пр. традиции.
На обсуждении режиссер И. Лысов говорио, что в спектакле есть тонкие прямые цитаты из белорусских еврейских спектаклей 1920-х, Н. Казьминой казалось, что что-то от изет от Т. Кантора, — словом, «Реквем» — привет очень многим, с кем связывала Левина жизнь. Жизнь в театре. При этом стилистика спектакля рождает мысли о примитивизме, это такой «еврейский Пиросмани».
Молодым режиссерам было чуть «сладко» колорит спектакля и правда «зефирный», но это никак не кондитерский продукт, вкус у Левина был отменный. Спектакль стильный, но чуть монотонный к концу. За горло он лично меня не взял (кто-то и плакал), хотя говорит о смерти. Наоборот – я радовалась факту искусства и выбору Б. Мильграма (если кто не помнит — фестивальный спектакль — это каждый раз рекомендация конкретного человека).
10 октября.
Выступление Д. Чернякова. Блистательное было выступление, в котором Митя, как бы делясь с молодыми режиссерами опытом, анализировал возникновение замысла, а сверхзадачей был мотив: ребята, это все такая мука, ставить можно только когда нельзя не ставить! В нем так замечательно переплетены гедонизм и неврастения, детскость и ум, искренность и закрытость! Большое, в общем, впечатление. Для меня.
«Соня» Херманиса. Мы писали о ней в ПТЖ, но я-то спектакль видела впервые. Ох, сколько мыслей рождает насковзь парадоксалистская его структура и столь же парадоксальное содержание!.. Не для блога. А в журнале писали. Так что — за щеку…
PS За два дня нашими торговыми стараниями тут разошлись почти три десятка ПТЖ, книга «Разговоры» распродалась в первый день, а желающие все прибывают. Граждане! Выписывайте через редакцию, адрес есть в блоге! Милости просим!
«Соня» Херманиса около двух лет была для меня неоконченным действием. На спектакль в «Балтийском доме» студентов не пускали — пространство слишком камерное, а рецензии (в ПТЖ и в других изданиях) описывали интереснейшую режиссерскую конструкцию, построение которой, её развертывание в пространстве так хотелось увидеть. И вот гештальт закрыт — вчера увидели. «Соня», как сказал на обсуждении Вадим Максимов, — «совершенный спектакль». И в силу своего «совершенства» стал лакмусовой бумажкой для режиссерского сознания. Ярый оппонент спектакля Геннадий Тростянецкий пытался разобрать его, пользуясь терминологический базой бессмертного К. С. — такой инструментарий позволял ему последовательно доказать несостоятельность режиссуры Херманиса, Марк Розовский усомнился в совершенстве драматургического построения и утверждал, что если рассказчик будет сделан полноправным автором, а «Соня»- его произведением, то из их взаимодействия и будет высекаться настоящий драматизм. Молодая же режиссура (позволю себе отнести к ней и Дмитрия Чернякова, выбравшего этот спектакль) говорила о новом театре, о сложной структуре этого спектакля, в котором максимальное остранение героини парадоксальным образом приводит к особого рода подлинности существования, перевоплощению, говорили о темах спектакля ( уходящее время, уходящая жизнь) и о том, как помимо литературного текста, действенными театральными средствами эти темы возникают в нем, говорила много…
Так что «Соня» Алвиса Херманиса кроме настоящего театрального события оказалась ещё и поводом к интересной лабораторной работе, выводы из которой очевидны.
11 октября.
Выбором актрисы Валерии Древиль стал спектакль «Наш террор» французской труппы D orеs et deja и Национального театра «Ля Колин».
Это коллективное сочинение актеров о Великой французской революции. Много месяцев, совершенно не по заказу, они изучали источники, импровизировали от лица своих персонажей – Сен-Жюста, Робеспьера и прочих членов Комитета общественного спасения, и спектакль скроен из самых разных текстов – от «Смерти Дантона» Бюхнера до протоколов заседаний Конвента. Режиссером стал Сильвен Крезиво.
Когда из зала выходят, садятся за стол и начинают разговоры о политике элегантные мужчины, похожие на офис-менеджеров, ждешь прямых аллюзий, намеков на сегодняшнюю политику и пр. Но темперамент, страсть, элегантность, грация великолепных актеров делает их Робеспьером, Кутоном, Сен-Жюстом.
Это отчасти похоже на «Большевиков», а отчасти – на «Берег Утопии». Играется драма идей, буквально за столом (лишь во второй части резко театрализуясь, тут якобинцы становятся актерами и певцами театра, льется кровь и белятся лица). Актеры не просто играют роли, они включены в историю личностно, интеллектуально, их – граждан Франции – нешуточно волнует то, что происходило во время якобинской диктатуры, их волнуют эти люди. А наш театр – не волнует (если не брать РАМТ). Потому что мы – не граждане, а население.
На вопрос, почему Древиль выбрала этот спектакль, ответ ясен: это напоминает эксперименты А. Васильева с текстами Достоевского, Т Манна, Платона. И она прислала русскому театру его родственника. Родственник приехал, не зная, что тут все уже умерли, а жив только Куни.
А еще Лоевский считает, что Древиль не могла устоять перед темпераментом десятка роскошных молодых артистов, в которых нельзя не влюбиться. Женская часть русского зала этот аргумент готова была счесть главным…
Вчера на фестивале было какое-то тяжелое обсуждение спектакля хозяина фестиваля Б.Мильграма «Жизнь человека». Почему-то все режиссеры, которых мы привыкли слушать и которые энергично обсуждали и ругали Херманиса (в его отсутствие) боялись сказать что-то о спектакле. Так же как взрослые критики, кроме Дмитревской и Лоевского, выбравшего спектакль. Думаю, Мильграм расстроился. Лучше бы говорили, а не молчали.
Своего мнения о спектакле у меня не сложилось, я хотела послушать опытных людей, потому что залу очень нравилось, а я не понимала, смеется режиссер над ними или нет, стеб это или серьезно. В какой-то степени Марина Юрьевна вчера ответила но хотелось бы больше.
«Жизнь человека» Андреева — это такой китч Серебрянного века. Б. Мильграм решил открыть материал средствами китча сегодняшнего. Я говорила на обсуждении, что получилось шоу, а не пощечина зрительскому вкусу, а обилие постановочных средств задавило смыслы. Мало для трех часов спектакля высказывания типа «человек живет и умирает». Но! Не мне судить о музыке и вообще о жанре спектакля. Это опера. Сюда нужна Е. Третьякова, вот она в контексте. Вообще музыкальные спектакли такого рода нынче всегда китч (с ужасом вспоминаю «Конька-Горбунка» в МХТ).
Но есть несколько хорошо и внятно сделанных сцен.
Я ожидала, что жизнь человека будет жизнью разных форм театра, и Мильграм намекал на это (юность человечества — ближневосточные мотивы, нечто антично-ветхозаветное), но эта линия заплутала.
И! Когда на сцену выходит И. Максимкина, я готова смотреть на нее бесконечно.
И вот фестиваль окончен. Программа была столь плотной, что не отписанными оказались два последних французских спектакля: «Хиросима, любовь моя» из Лозанны и «Пиноккио» Ж.Помра — спектакль московской «Практики». В них есть сходство «минималистской» черно-белой эстетики, изящество и элегантность, как, впрочем, и различия…
Надеюсь на молодых коллег, способных откомментировать. Сама от усталости (каждый день по 10 часов работы, обсуждений и пр.) не имею сил. М.б. попозже.
О «Пиноккио»уже написала Мария Зерчанинова, поэтому напишу пару слов о спектакле «Хиросима, любовь моя», сделанном по одноименному сценарию Маргерит Дюрас.
Когда режиссер Кристин Летайер ставила спектакль, она понимала, что его обязательно будут сравнивать с фильмом, снятым Аленом Рене в 1959 году: нет француза, который не знал бы каждый кадр и каждую интонацию актеров наизусть.
Сценарий Маргерит Дюрас строится по принципу детектива: единственное событие — это встреча героев, и цель каждого из них — узнать о том событии в прошлом, которое определило их жизнь. Для нее — это Невер, для него — Хиросима. Герои находятся практически все время в пространстве воспоминания, их реплики написаны стихами.
Кристин Летайер использует только звук и свет, создавая реальность, эквивалентную поэзии Маргерит Дюрас: она характеризует пространство звуком, музыкой, развивающейся во времени. Переходы из пространства настоящего в пространство воспоминания даются лишь переменой акустики с помощью микрофонов: например, она рассказывает о подвале в Нантерре, и голос звучит гулко, будто раскатываясь под его сводами. С помощью усиления и уменьшения громкости Кристин Летайер работает с общим и крупным планом: чем тише говорит актер, тем громче передает звучание голоса микрофон, приближая его к нам.И играя со звуком, превращая его в эпитет пространства, Кристин Летайер ставит акцент на звучании голоса актеров. Они движутся нарочито медленно, и к финалу спектакля становятся в большей степени поэтическими образами Он и Она — нежели живыми людьми, и зритель остается наблюдателем, а не сочувствующим, не сопереживающим.