ТРАМВАЙ
Я учился в средней художественной школе — СХШ, поступил туда в 1952 году, буквально через год после того, как «завязал» — и сразу .в третий класс. Из прошлой своей среды — детприемников и колоний — я попал в совершенно другую, но очень интересную для меня и чем-то даже родную среду.
СХШ была школой, которая не подчинялась знаменитому РОНО, она подчинялась Академии художеств. Поэтому и учителей поставляло не РОНО, а художники: плохие, хорошие, чиновники, нечиновники, но — художники. Представьте, как важно это было в начале 50-х годов.
Преподаватели были разные, но это отдельные рассказы. Был такой полковник или подполковник Мищенко по прозвищу «Пентели» (вместо частого «понимаете ли» он говорил «пентели»), который выстраивал нас на 1-й линии и командовал: «От меня до следующего столба шагом марш!» Он жутко любил шутить: «Что это за средне-художественная школа! Голых баб рисуют! Як в бане. Ха-ха-ха!» И мы минут двадцать смеялись поочередно, по цепочке, тем самым как бы возвеличивая его остроумие и сокращая урок… По черчению был преподаватель по прозвищу «Форматка». Наши преподаватели по «изобразиловке» помнили его таким же, как видели мы: в черненьком потертом костюме, беленькой рубашечке с протертым на сгибе воротником, всё засаленное, но аккуратненькое… Тощенький такой, тощенький. Про него ходила легенда, что он учился еще с Карлом Брюлловым, был жутко талантлив, особенно в графике, но жизнь из него сделала «Форматку»… Он ходил между наших столов и пел: «Черчение — наш хлеб в старости… Черчение — наш хлеб в старости… Я могу построить дом, я могу убить человека… Черчение — наш хлеб в старости…»
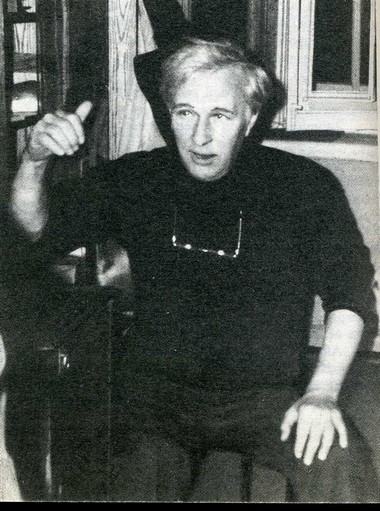
А вот русскому и литературе нас учила учительница по фамилии Подлясская. Был такой художник Подлясский, известный пейзажист, а это — его матушка, выпускница еще Смольного института, легендарная «смолянка». Вообще, всех наших преподавателей, которые по типу никак к РОНО не подходили, мы называли «антиками». Подлясская была потрясающий «антик». Мы не знали с ней, что такое учебники, она так колоссально рассказывала о литературе, что даже я, вышедший из «скачков», слушал ее, развесив уши. Она прекрасно говорила по-русски, без сентиментов, без украшательств, она могла сказать крепкое русское слово, но только по делу, очень пристойно, без всяких слащавостей, которые обычно любят литераторы. Она была строгой, справедливой, и мы любили эту старуху.
Но она-таки была стара, страдала подагрой, и на год ее увезли лечиться куда-то на грязи, а вместо нее из РОНО временно пригнали другую училку.
В ту пору в Ленинграде появились новые трамваи. До этого были замечательные маленькие, хорошо нарисованные трамвайчики, знаете, с такими ажурными решетками вместо двери и огромной «колбасой» сзади, на которой иногда висела гроздь пацанов, ехавших бесплатно. У старых трамваев были хорошие подножки, тамбур, трамвайчики эти очень хорошо подходили для нашего города по масштабу. До этого я никогда не видел трамвайчиков, и об этих, которые я наблюдал совсем недолго — два или три года, — я храню очень светлые воспоминания.
А потом появились огромные, красные, с механическими дверьми и обрубленным «носом», без подножек, с маленькой «колбасой» и жутким звуком. Они были тяжелые, скрипели, грохотали. Непонятно почему они получили название «американки». Для нас они были некрасивы и неудобны, проехать без билета с Петроградской на Васильевский через Тучков мост на такой «колбасе» было уже невозможно. И мы возненавидели эти трамваи.
Это произошло одновременно: пришла вместо Подлясской училка из РОНО и появились новые трамваи. И вот еще: тогда были модны огромные, длинные, ниже колен, вязаные кофты с низко посаженными карманами на уровне вытянутых рук. И эта училка была в такой, модной по тем временам, кофте красного цвета. И трамваи были тоже красного цвета. Кроме того, она была, как говорят в народе, «поперек себя ширше», шеи у нее не было, ей было никак не повернуть голову, она поворачивалась только всем корпусом, все ее движения были похожи на эти неповоротливые трамваи. И она полностью стала ассоциироваться у нас с ними. Естественно, что и прозвище она получила — «Трамвай».
Но если она — трамвай, то мы — пассажиры трамвая! Все «сехешовцы», у которых она преподавала, сговорившись, стали изображать на ее уроках пассажиров. Был разработан сценарий, как в комедии дель арте, и, естественно, с правом ежедневной импровизации. Идеи, которые каждый из нас приносил в этот сценарий, шли от жизни, потому что все мы ездили на этих трамваях со всех концов города. Сюжеты разыгрывались по договоренности, но были среди импровизаций и обязательные вещи, как бы ритуалы, которые повторялись каждый день. Ну, например, обязательно 1сго-то опаздывал: дверь резко распахивалась, и опоздавший как бы вскакивал на подножку в уходящий трамвай. Она пугалась: «Что с тобой, откуда ты взялся?» — «Понимаете, я вышел, смотрю — он набирает скорость. Извините, чтобы не опоздать, мне пришлось вскочить!» Она ничего не понимала, выгоняла, но то же самое происходило во всех классах.
Едем дальше. Она открывала журнал и спрашивала, допустим, наш класс: «Герасимов (у нас было два Герасимовых, один — сын известного скульптора-антрополога), Кочергин, Михалёв…» А меня, допустим, нет. Вставал староста Осипов (он заикался) и говорил: «А он здесь, в со-о-седнем ва-гоне»… Знаете, в старых вагонах были такие индивидуальные ручки, подвешенные на брезентовых ремнях к общей трубе, за которые народ держался. Так вот, выходя к ней отвечать, каждый как бы держался за эту ручку — и так стоял с поднятой рукой, покачиваясь.
Не знаю, из какой она была области, но говорила она не по-русски. Нас, детей войны, которые говорили «ремень» и «пионэр», Подлясская к тому времени выучила уже нормальной русской речи. А новая училка говорила как раз так, как нам запрещала Подлясская, с теми же ошибками. Она вообще говорила на каком-то тарабарском языке, и, по сравнению с нашей смолянкой, ее речь воспринималась дико. И вот мы едем в трамвае по городу, рельсы неровные, его трясет. И когда она неверно произносила какое-то слово, мы все резко — вжжжик! — как при толчке сдвигали столы. Она не понимала что происходит, протестовала, но ничего не могла сделать. Наш «трамвай» повторялся изо дня в день, всё делалось очень серьезно, смеяться было запрещено. Если бы, к примеру, я засмеялся во время этой работы (мы именно работали), мне бы сделали «ляву». Казнь была такая: больно и неприлично. Поэтому никто не смеялся.
Постепенно она перестала уже обращать внимание на все это. Мы что-то придумывали, «ездили бесплатно» и прочее… А она к концу года уже была совершенно спокойна, только изредка что-то в нашем поведении еще заставляло ее как-то замирать и как бы выпадать на несколько минут.
Когда к нам снова вернулась Подлясская, она сказала: «Вы что сделали, скоты? Ваша преподавательница в сумасшедшем доме!» И Андрюха (был у нас такой отпетый хулиган, потом утонул) в полной тишине произнес: «Сошла с рельс…» С тех пор в «сехешовском» лексиконе выражение «сойти с рельс» стало означать «сойти с ума».







Комментарии (0)