Доклад на заседании Совета факультета драматического искусства ЛГИТМиКА, 24 февраля 1981 г. (стенограмма)
Какой-то мудрый человек, я забыл, кто это, по-моему, Питер Брук, сказал, что для того, чтобы достичь вершины, надо внимательно следить за всеми указательными знаками, надо следить за всеми следами. Очень точно. Если мы хотим усовершенствовать наш процесс если мы искренне обеспокоены положением наших сегодняшних театральных школ, то, действительно, надо внимательно следить тем, что происходит не только у нас (чего греха таить: мы даже не знаем, что происходит на соседнем курсе), что делается театральных школах Каунаса, Тбилиси и что делается в театральных школах зарубежных. Та информация, которая есть у меня, вселила в меня беспокойство. Я говорю это абсолютно искренне. И самое главное — недовольство самим собой. Мне кажется, что недовольство собой должно быть нашим нормальным рабочим состоянием. Смерть нам, когда приходит довольство собой, когда я всё знаю, всё делаю правильно и великолепно. Мне показалось, что мы делаем не то что нужно. И это заставило меня решиться на сегодняшнюю беседу, Я понимаю: многое, о чём я буду говорить, будет не бесспорным и вызовет разную реакцию. Я иду на это сознательно, потому что меня это волнует. Это моя боль, это моя вера, я очень верую то, о чём я буду говорить. Я всё время думал, зачем мне .это делать и волнения, и времени нет. И потом я последнее время не ощущаю в этом какого-то смысла: делал доклады, и всё уходило, как в песок, и никому это не нужно. А может быть, кому-то и нужно, но я вижу реальных результатов. Тем не менее, я отважился на эту встречу… Может быть, кого-то растревожу, кого-то разозлю, а кого-может быть, удастся увлечь.
Мы все знаем, что одна из важнейших специфических особенностей нашего искусства заключается в том, что в нашем театральном искусстве творец, материал, орудие и само произведение слитны. То есть актёр творит образ самим собой, из самого себя Это одна из важнейших специфических особенностей нашего искусства. Эта особенность порождает, во-первых, дилетантизм и поэтому делает наше искусство необыкновенно сложным. Коль скоро я артист, человек, и я — творец, и я — материал, и я — орудие, и я ещё и произведение, то, вы сами понимаете, как это сложно, и как легко здесь, извините за грубое слово, шарлатанить. Вот эта особенность искусства нашего, она, прежде всего, делает человека, его индивидуальность важнейшим предметом нашего исследования. Как важна в нашем искусстве личность, натура, как важна в нашем искусстве человеческая индивидуальность и все её качества: физические, интеллектуальные и душевные, я имею в виду нравственные качества. А когда я говорю о физических, я имею в виду и музыкальность, и голос, и тело — всё вместе. Не случайно Ермолова сказала, что воспитать артиста — это, прежде всего, воспитать человека. Задача нашей школы — воспитать человека, и этого человека подготовить к творческому акту, к этому чуду, к свершению этого чуда, которое называется искусством. Станиславский сказал это по-другому: «Наша задача, наша цель — создать жизнь человеческого духа». И вот на основании сегодняшней науки закон органической природы, я бы сказал, в другом — создать жизнь человеческого тела. Почему тела? Существует закон природы о неразрывной связи человеческого духа, психики и физики. Я хочу привести очень убедительную цитату Сеченова, который сказал: «Все люди — и простые, и учёные, и натуралисты, и учёные, которые служат духу, судят о психической деятельности по её внешнему выражению, то есть по жизни тела». Я хочу ещё одну цитату прочесть. Сеченов пишет: «Всё бесконечное разнообразие мозговой и психической нашей деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению — мышечному движению. Смеётся ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его изгоняют за любовь к Родине, смущается ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон свой закон и пишет его на бумаге — везде окончательным актом является мышечное движение». И дальше слова Белинского: «Ум — это человек в теле, а, точнее, — это человек через тело». Вот почему в нашем искусстве тело имеет огромное значение. Тело — это тот организм, через который мы читаем все богатство и душевной, и психологической жизни человека.
Не случайно одним из основных положений учения Станиславского является метод физических действий, к сожалению, мало разработанный и почти не внедрённый в нашу практику. Это высочайшее достижение театральной идеи. Сейчас Георгий Александрович* собирается написать большую статью об этом методе. И Питер Брук сейчас ведёт поиски в этом направлении. К методу физических действий приковано внимание крупнейших художников современности.
* Товстоногов
Я хочу остановиться на воспитании актерского тела. Что такое воспитать тело и что такое вообще тело человека? Прежде всего, нам надо высвободить выразительность этого тела, в котором заключены огромные эмоциональные, душевные, интеллектуальные ресурсы. Сейчас вышла книга американского художника «Мыслящее тело». Оказывается, подлинник художника излучает какое-то силовое поле. В нём сосредоточена огромная энергия. Психологи рассказали одну забавную историю о том, как создавались в XV веке иконы Рублёва. Берётся доска и наносится грунт, и специально под руководством Рублёва этот грунт наносили долго, сосредоточенно; он запрещал даже разговаривать. Это было священнодействие. Энергия копилась в этом левкасе. Рублёв истязал себя — готовил себя к этому творческому взрыву, голодал. Дело в энергии, которую он чувствовал и копил. И затем начинал делать набросок. Иконопись следовала строгому канону, и, тем не менее, в рублёвских иконах содержалось что-то необъяснимое. В прошлом году Русский музей вывез выставку русских икон в Японию. И вот произошло странное явление. К некоторым иконам выстроились очереди, так что людям разрешили прикоснуться к этим иконам.
Огромные толпы подходили и прикасались к ним. Мы знаем, что японцы обладают ощущением скрытой энергии, которая находится в предмете. Оказывается, что в рублёвских иконах сосредоточена огромная энергия. Я убежден, что наше тело — это тоже резервуар огромной энергии, человек излучает какое-то силовое поле. В нашей профессии, мне кажется, это решающая проблема — способность к лучеиспусканию. Простите за экскурс в прошлое. Вспомнилась репетиция «Иркутской истории» в БДТ. Сцена, когда приезжает Сергей за Валей, и они должны уходить в загс. Смоктуновский задерживался, и вместо него репетировал другой актёр. Когда Смоктуновский приехал, Товстоногов попросил его пройти эту сцену. Произошло странное явление. В центре стояла кровать, сидела Таня Доронина и ждала Сергея. Обстоятельства все знают; она его очень любила, и тревога у нее какая-то была. Вот вошёл Смоктуновский. Он как-то, знаете, посмотрел на Таню Доронину и протянул руку… Почему-то все замерли, тишина стояла мёртвая, он просто сказал ей, у Тани вдруг брызнули слёзы. Ее спросили: «Таня, что такое?» Она сказала: «Не знаю, что-то в его пальцах. У меня схватило горло». Вот какая-то огромная сосредоточенность. Я убеждён, что организм человеческий заряжен этой энергией, энергией солнца, энергией души, энергией ума. Я вспоминаю свои детские годы, Н. П. Хмелёва — одного из верных учеников Станиславского. Он говорил: «Я ищу балет роли». В Тузенбахе он играл замёрзшего человека. Когда он шёл на дуэль, его тело излучало что-то необъяснимое… Степанова говорила: «Невозможно с ним играть. У меня разрывается сердце». А когда Росси вдруг видел платок, поворачивал голову и приподнимался, приподнимался и весь зал. Сегодня, к сожалению, театр должен иметь мягкие спинки, все сидят откинувшись, многие едят конфетки. Действительно, театр стал зрелищем. В спектакле «Взрослая дочь молодого человека» есть то, что завораживает, что заставляет меня быть в театре, в котором я давно не был. Я не знаю, как это объяснить. Это магия, это чудо.
Во-первых, поставил талантливый человек. Есть и другие талантливые режиссёры, у которых почему-то не выходит. Васильев репетировал этот спектакль 8 месяцев. Он пришёл, до него этот спектакль делал его сокурсник. Васильев спасал положение. Бывший режиссёр ушёл, Толя Васильев заново начал репетировать. Восемь месяцев его ненавидели. Он говорил: «Это сумасшедший дом, у меня сил не хватает». А потом они его на руках носили. И сейчас Толя Васильев для них бог. То же самое произошло с Гротовским, когда репетировали «Сон в летнюю ночь», они его ненавидели, он их мучил, а сейчас они его готовы на руках носить. Он им принёс славу, успех. Заряжает их невидимой энергией. Существует какая-то магия. Мы сняли тайну, всё так понятно и ясно, и стало страшно. Всё-таки в искусстве какая-то должна быть тайна, надо чему-то верить. Нам всё ясно: это действие, это обстоятельство, что тут мудрить — строй. И мы строим. В институте это страшно. На втором курсе не может быть спектаклей, потому что опять мы разрушаем эту тайну, это священнодействие. Вне этого нет театра. Мы должны прийти сюда для того, чтобы покаяться здесь, очиститься. Пошлость в нашем деле губительна, цинизм тоже. Мы, к сожалению, всё знаем. На семинаре Кедрова я запомнил фразу, он хорошо сказал: «Вы все тут сидите, вы всё знаете, я даже не знаю, что вам сказать. И в то же время, я убежден, вы ничего не знаете. Я вам задам вопрос, что такое действие, вы все ответите. Но вы так смотрите, вы так пришли ко мне, что я не хочу вам рассказывать. Если вы хотите что-то постигнуть, я готов рассказать. А просто рассказывать я не хочу».
Тут есть что-то, что определяет тайну профессии. Я говорю о теле, об этом самом выразительном и прекрасном механизме. Вспомним восточный пластический театр. Я хочу уйти от европейского театра, чтобы подчеркнуть другую эстетику. Восточный театр — это театр пантомимы. Там существует знаковая система жестов, вокальная знаковая система. Ясно, что тренируется. Они маги, с точки зрения владения своим телом. Это потомственные актёры. Их с детства воспитывают. Один человек мне рассказывал: он был на пекинской опере, видел спектакль: выступали отец и сын, и огромный успех имел отец, а он сидел и ничего не понимал, чем отличается сын от отца. Всё то же самое, абсолютно та же техника, та же знаковая система, и то же обаяние. Оказалось, дело в том, что сын потел, а там считают: когда человек потеет, старается — это не искусство.
Мне кажется, что здесь, в этой знаковой системе, главное то, что тело освобождено. Всё, что у нас в нашем искусстве делается с трудом, выращивается на поту и на труде, не может иметь этого воздействия. Выразительность освобождённого тела. В восточном театре существует стерильность этих движений. Там нет индивидуального самовыражения, не может быть индивидуального раскрытия. Не случайно там не роли, а типы. Почему в восточном театре голоса у всех искусственные? Там нельзя разговаривать своим голосом, потому что создается некая знаковая система, которая блокирует естественные человеческие импульсы, которые и рождают нормальный человеческий голос.
Европейский театр — театр индивидуальностей. Станиславский говорил, что очень важно заниматься фехтованием, сценическим движением, даже акробатикой. Акробатика вырабатывает у актёров бесстрашие, создает гибкое, ловкое тело. Не случайно когда-то акробатику называли доброй феей, и не случайно все бродячие актёры включали её в свои программы. Это справедливо: надо тренировать свое тело, заниматься и гимнастикой, и фехтованием, и танцем. Всё как будто справедливо. Но возникает вопрос — что такое заниматься всеми этими предметами в театральных школах? Мейерхольд тоже мечтал открыть художественно-акробатическую гимназию, которая готовила бы артиста ловкого, гибкого. Мне кажется, сегодня это наивно и в корне несправедливо.
Ещё один вопрос, который мне кажется очень важным. Станиславский, разрабатывая любой аспект какой-то проблемы, добивался сам поразительной точности. Он был человек дотошный. Когда Книппер-Чехова вспоминала Станиславского, она говорила: «Сегодняшние репетиции — это рай. Станиславский не прощал ни малейшей ошибки. Как он был придирчив! Он добивался огромной точности». Мы, наследуя методологию Станиславского, используя предложенные им приёмы, упражнения, делаем тотальную ошибку. Мы все это делаем кое-как, не пытаясь добиться точности. Я приведу два примера. Так называемое упражнение на память физических действий с воображаемыми предметами, которое Станиславский завещал на последнем сборе корифеев МХАТа. Прошло столько лет, везде это делается. Мы это проходим кое-как. Мы не тратим на это время. Это даёт результаты только тогда, когда это делается добросовестно, с отвагой. Надо иметь огромное мужество, чтобы делать эти упражнения, добиваясь подлинности, ультранатуральности. Он правильно сказал об упражнениях: это требует огромной работоспособности и миллиона деталей. У нас всё это приблизительно, мы внешне это делаем, а по сути себя дискредитируем. Следующая проблема — расслабление. Почему-то это открытие сейчас медики приписывают Станиславскому. Сейчас это модно, сейчас существуют классы аутотренинга, классы релаксации, эти упражнения используют в театральных школах. По-моему, это вредно. Станиславский говорит: не расслабление нужно. Посмотрите, что он сказал в 1939 году. В нашей профессии есть поразительная черта: самые простые вещи мы предаем забвению. Константин Сергеевич говорил, что у каждого человека есть точка, где собраны эти зажимы; надо уметь знать эту точку, каждый раз её фиксировать и добиваться расслабления. Но в каких условиях? В условиях приливов и отливов напряжения. Мы забываем это последнее. Эти приливы и отливы напряжения всё время путают карты. Это сложно, это требует огромной работы, огромного труда, добросовестности, и ни в коем случае не торопиться. Нельзя проявить выразительность, если тело не свободно. Мышечная свобода должна создать резервуары, каналы, по которым течет энергия. Это очень и очень серьезная проблема. Мы пропускаем самое простое и самое главное. Наши студенты учатся танцевать. Если надо, они танцуют тарантеллу, чечётку, если надо, они показывают нам пантомиму. Но это — вставные номера в наших спектаклях. Это взято из другого искусства. И какое это имеет отношение к драматическому театру? Танец, не рожденный мной-персонажем, как-то и смотреть неловко. Я помню «Нору». Откуда Нора так изучила движения тарантеллы? Балетмейстер поставил.
И почему я возвращаюсь к «Взрослой дочери». Там тоже есть танец, но посмотрите, как это сделано. В одном случае он делает концерт, ретро: вот как танцевали тогда, в другом случае это индивидуальное: вот как я могу отчего-то заплясать. Когда мы пляшем, это индивидуально, и в этом есть прелесть сегодняшнего театра. У нас же просто номера. Танец должен быть рождён именно этим персонажем. Может быть такой спектакль, где просто ставят танец и делают это великолепно. Все танцы в наших спектаклях не несут индивидуальности актёра и образа. Это не означает, что в процессе обучения не нужны танец или фехтование. Мне рассказывали о «Сирано», где знаменитые сцены фехтования сделаны по-другому. Мне надоело, когда я вижу в театре позиции третью, пятую, четвертую. Так в жизни не могло быть. Понаблюдайте внимательно за актёром, который занимается гимнастикой. Оказывается, его биологическая, жизненная структура невыразительна; напротив, она стала хуже. Развиваются мышцы, он становится ловок в специфических движениях. А вот та натура, живое импульсивное человеческое тело, которое способно лучеиспускать, блокируется, тогда приходит мысль, что все физические упражнения, которые делаются формально, не освобождают тело, а замыкают его внутри определенным образом: отобанных движений или акций. Тело обучено, от-дрессировано, но не свободно. Есть разница между обученным и свободным телом. Нет ничего прекраснее освобожденного человеческого тела. Мне кажется, что все эти формальные дисциплины (мы их почему-то называем вспомогательными) дрессируют тело, делают тело красивым.
Как на речи сегодня делают голос красивым. В некоторых театрах до сих пор разговаривают поставленными красивыми голосами. Мы так же ставили. И кафедра речи вовремя поняла, что это неверно. Сегодня нельзя красиво ставить голос. Точно так же нельзя сейчас делать красивое тело, а мы продолжаем почему-то это делать. Уже неловко говорить о связи коры головного мозга и всего мышечного аппарата. Оказывается, все физические движения человека рождаются в недрах тела. Открыто, что есть место в человеческом теле, где рождается вся его пластическая, жестовая культура. Я сегодня не могу смотреть, как актёры музкомедии двигаются: это не рождено изнутри, это не человеческое. Это обезьяний театр. Я говорю о другом. Всё рождается в основании позвоночного столба, там, где крестец, на бёдрах и в части брюшины. Дель Сарто сказал: «Вся эмоциональная структура артиста рождается в брюшине». Как это важно: жест там рождается, а заканчивается он в руке, в ноге или голове. Это говорит о единстве тела и души, всех внутренних посылов и тела. Я убеждён, что в театральном искусстве это должно быть законом. Нет театра вне души. У нас же что происходит: вот я, а вот мое тело. Я тренирую ноги. Я бы написал по-другому: работа актёра с самим собой. Не над собой, а с самим собой. У меня есть студент, который занимается тренингом голосовым больше всех, а результаты хуже, чем у всех. Занимается он, действительно, много. Занимается его язык, занимаются его губы, мышцы шеи, не занимается его душа. Он отдельно. Есть «я», есть тело, есть движение, и есть отдельно что-то. На актёрском мастерстве — психологические переживания и т.д. А здесь надо кувырок, надо стойку. Я против этого категорически. Мне кажется, сегодня надо говорить о целостном тренинге. Нас учили благородно, скоординировано ходить. Пока я себе не скажу, что я — человек…
Нельзя быть жлобом и выдрессированно ходить. Здесь важно ваше достоинство, потому что достоинство распрямляет мою спину. Очень важно, чтобы (что бы я ни делал) это было внутренне оправдано. Ещё один пример. Акробатика. Я за акробатику, но не формальную, а за акробатику органическую… найти импульс, как ребёнок, которому хочется прыгать. Дух меня должен поднять, чтобы я прыгнул, а не тело тренированное. Упражнения обязательно должны приносить радость. «Человек-птица», «человек-жеребёнок», «человек-солнце» — прекрасные упражнения. Они не только телесные, они психофизические. Любой тренинг должен быть психофизическим. Если этого нет, нельзя говорить о воспитании человека в современной школе. Я должен сказать, что кафедра сценической речи сделала в этом смысле определённые успехи, когда соединила физический тренинг с голосовым. Это было принципиальное новшество в воспитании голоса. Важно не остановиться на этом. Важно понять, что голос и тело только в потоке могут быть выявлены, но этот поток должен за собой потянуть скрытые возможности тела. Не просто движение, а поток движения, и голос, который эту акустическую трубу раздвинет. Человек — организм удивительный. Он всё может. Всё. Только надо очень хотеть. Не просто тренироваться, душа должна всё время хотеть и получать удовольствие. Вспомните знаменитый рассказ Чапека про мальчишку, который крал яблоки, а хозяин его избил. Тогда мальчик, бросив камень через реку, разбил хозяину голову. И когда полиция попросила его повторить этот удар, он не смог добросить камень и до середины реки. Он должен был очень этого хотеть, душа должна участвовать. И танцевать должно не тело, а я, моя душа. Каждый должен для себя открыть это.
Существует некая раздвоенность. Есть я, и есть тело, психическое и физическое. Здесь я честный, там — жулик. Здесь я со сцены призываю к бескорыстию, и на этом я зарабатываю. Играю пьесы, в которых призываю к знанию, а на лекции не хочу ходить, на лекциях сплю. Проблема раздвоенности проникла во все сферы нашей педагогической жизни. На первом курсе упражнения, потом их забываем. Спектакль — что-то одно, репетиция что-то другое. Зерно всякого творческого процесса — это целостность. Есть человек-артист, а вообще есть человек. Вот студент читает фельетон о безобразиях в нашем быту. Это читает не человек, а его язык и память. Так приучаются врать. Как важно то, что мы называем сверхзадачей, как важно желать что-то сказать, ночь не спать, потому что это меня тревожит. Разорванность образа — это беда, это смерть художника. Мне кажется, что не быть разделённым — это зерно всего творческого процесса. Мне кажется, что творчество — всегда занятие радостное, свободное и возбуждённое. Очень важно, что работа наша тяжёлая. Не случайно Станиславский говорил: «Моя задача — учить вас тяжёлому труду». И тем не менее, работа должна быть радостью, праздником, который всегда со мной, потому что будничность убивает смысл театра. Очень важно ощущение праздника. Внутри должен быть праздник. Как сидят наши студенты на лекции, как они слушают и как педагоги читают — это всё должно быть в ощущении праздника. Когда я заглянул на лекцию, ну, какой праздник! А как вам читать, когда я смотрю в скучные лица! Значит, надо опять начинать с внутреннего посыла, какая-то игра обязательна, и постепенно я втяну себя в этот процесс. Там что-то будет у меня творческое, а тут «мура». Нельзя разделить: там — мастерство, а там — лекция по гражданской обороне. Это один цикл, это единое. Очень важно, как мы читаем лекции. Л. Толстой сказал: «Я убежден, учителю должно быть трудно учить. Когда учителю легко учить, это — безнравственно». Должно быть трудно. Надо мучиться, надо знать мысли своих учеников, заставлять их задавать вопросы, искать ответы. Очень это трудно: быть сегодня учителем. Мне кажется, что очень важно и очень трудно быть сегодня учителем.





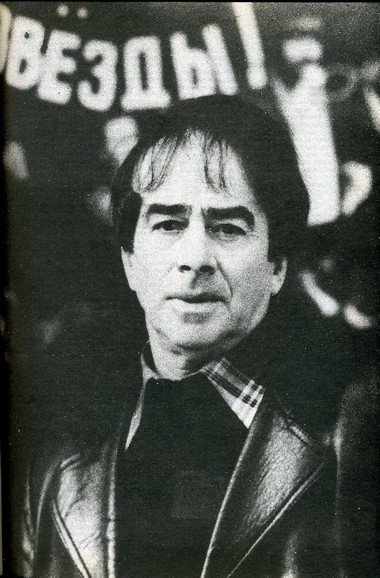


Комментарии (0)