Конечно, Александр Митта принадлежал исключительно киношному ведомству, и мы, театральные люди, можем сказать прощальное слово только как зрители его фильмов: есть несколько вещей, которые как бы вышли за пределы картин и живут с нами в первой реальности.
Прежде всего, конечно, «Гори, гори, моя звезда» со всей этой гибелью свободного искусства в 1968, с этой гениальной поделенностью «лидеров общественного мнения» на два типа художников: Табакова-Искремаса и Леонова-кинопрокатчика. Но главным, конечно, был там молчащий Ефремов (я не знала, что он говорил на съемках Митте: «В театре у нас такой кромешный ад, давай я буду об этом молча думать, а ты меня снимай…») — молчащий художник, претворяющий первую реальность, яблони, — во вторую, в искусство, которое прекраснее природы и настоящих яблок…
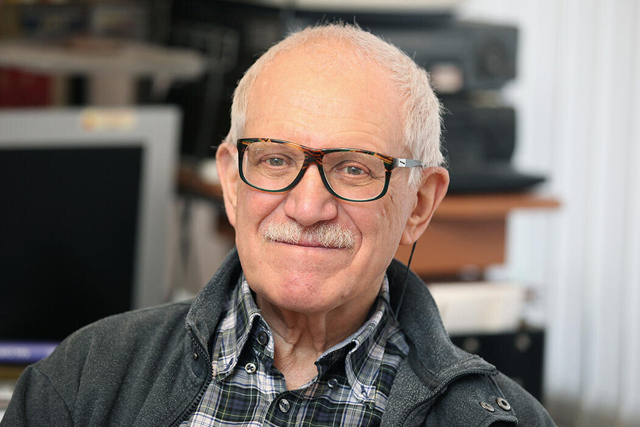
Александр Митта.
Для меня, конечно, именно Митта навсегда протрубил володинский кинематограф горном своего Паши-Ролана Быкова в фильме «Звонят, откройте дверь!». Этот медный горн в руках маленького человека даже в пионерском моем детстве давал понять истинные ценности, Митта не врал и не прикидывался… И как же не любила я девочку Лену Проклову, мою ровесницу, сыгравшую героиню, которую, конечно, я бы сыграла не хуже (тогда, в 5 классе, я не знала о страшном сюрреалистическом дне — марше детей — когда по объявлению в «Пионерской правде» 12 000 московских мальчиков и девочек двинулись на пробы, запрудив прилегающие к «Мосфильму» улицы). Я жила в Вологде и подумать не могла, что эту Лену в платке (я, между прочим, тоже любила платок) буду наблюдать много лет на огромной фотографии, висевшей над пианино в комнате Александра Моисеевича Володина — сценариста того фильма, который я смотрела в 5 классе…
О тысячах детей, заполнивших улицы, я узнала позже из рассказа Митты, когда началось мое собственное «звонят, откройте дверь», когда я ходила по Москве с диктофоном и звонила в разные московские двери, собирая материалы для второго тома двухтомника «О Володине. Первые воспоминания». Вот тогда судьба и свела меня с Александром Наумовичем. Он был неулыбчив, прост и похож на какого-то механика… Все — исключительно по делу, без капризов и придыхания. Казалось, это человек очень верный (он был сильно озабочен здоровьем жены), прямой, не кривящий душой и памятью.
Мы довольно долго говорили, а потом он заверял текст для печати. Что-то правил (уже не помню). Второй том вышел уже давно (двухтомник переиздается двадцать лет, можете купить и прочесть), но в сети его нет, так что в память об Александре Митте в эти траурные дни мы решили опубликовать его в качестве прощания. Чтобы еще немного звучал голос прекрасного режиссера — едва ли не последнего из могикан того поколения…
Марина Дмитревская
Володин был одним из самых «влиятельных» людей моей жизни в том смысле, что оказал на меня едва ли не самое большое позитивное влияние. Только сейчас, когда всех тех, кто на меня серьезно повлиял, уже нет и я один, а время гнет людей в разные стороны, — я понимаю, как ужасно могла сложиться моя жизнь, если бы в ней не было Володина, Дунского, Фрида…
С Володиным я встретился в самом начале своей работы в кино. Я дружил с театром «Современник», с его актерами, Олег Николаевич был моим идеалом в режиссуре, я торчал у него на репетициях, потому что во ВГИКе работа с актером была уязвимым, слабым местом, никто этому не учил — и я учился у Ефремова. Новый театр только что образовался, играли в подвале гостиницы «Советская», еще не было здания на площади Маяковского, все они были очень бедные, а я жил там неподалеку, в коммуналке с шестью соседями. Моя жена была очень госте¬приимна, поэтому каждый день она бежала на базар, покупала баранью ногу, шпиговала ее чесноком, и каждый вечер мы собирались. Квартира вся пропахла чесночной бараниной, но соседи относились к этому как-то терпимо, хотя актеры безум¬ствовали…
Первая моя картина — «Друг мой, Колька». А путь начался в Питере, куда меня позвали на «Ленфильм» снимать картину по еще не законченному сценарию «Полосатый рейс» (но мы бросили ее ради картины «Друг мой, Колька»). Там я и познакомился с Володиным, который был чрезвычайно общительным человеком. И очень деликатным. Общение возникало за счет моей настырности, а он не мог отказать, его многое интересовало, хотя в кино он тогда совершенно не работал.
Я предложил ему написать сценарий (после фильма «Друг мой, Колька» я искал серьезную драматургию). Принес какую-то идею, он даже обсуждал со мной что-то, а потом исчез. И принес сценарий. Совершенно другой, не имеющий ничего общего с тем, о чем мы говорили, но точно отвечающий адресу: я тогда работал в творческом объединении «Юность», где мы пытались найти контакт со взрослыми людьми через детскую тему, через новый подход к ней (ведь тема эта была насквозь идеологизирована). Володин точно усек эту возможность и сделал сценарий о девочке, которая ищет первых пионеров, — настолько непохожий на все, что делалось вокруг, что я, честно говоря, даже растерялся. Пошел к своему учителю Михаилу Ильичу Ромму. Он прочитал и говорит: «Сценарий прекрасный, но делать тебе его я решительно не советую. Слишком тонко. Ты начинаешь, тебе нужна крепкая драматургия, возьми что-то поуверенней. Эту вещь даже в театре сделать невозможно, а в кино все так -огрубляется…». Ромм относился к нам нежно, бережно.
Три недели я думал, соглашаться мне или нет. Никто об этом не знал. Если бы за эти три недели сценарий кто-то перехватил — всё, моя жизнь пошла бы наперекосяк. Но, слава Богу, никто его не схватил, всем казалось, что это что-то малопер¬спективное.
Когда я стал давать сценарий операторам — они отказывались один за другим. Единственный, кто сказал мне: «Классный сценарий, в этом что-то есть», — был Паша Лебешев. Он был тогда никто, ассистент оператора, студент, из года в год пролонгировавший свою учебу, у него не было даже права снимать. Поэтому мы взяли подставную фигуру — оператора Панасюка, а снимал на самом деле Лебешев.
Так незаметно я влез в работу, поставив себе творческую задачу увидеть и снять эту историю как бы не моими глазами, а его, Володина, глазами, стараться все делать через него.
Когда мы искали девочку, я перебаламутил всю Москву. Объявление я просил дать в небольшой газете, чтобы пришло немного народа, и просил опубликовать его в «Московском комсомольце», который был тогда очень скромной газетой. А ассистенты нашли газету еще вдвое меньше и дали в нее объявление. Это была «Пионерская правда». И получилась страшная история, которая могла «захлопнуть» всю карти¬ну, потому что в субботний день все дети со всей Москвы двинулись на «Мосфильм». Остановилось движение, встали переполненные автобусы, троллейбусы, они шли пешком… Говорят, в этих огромных очередях было 12 тысяч детей. Это был самый кошмарный день моей жизни!
Выбрать, конечно, было невозможно, тем более что все они были возбуждены и, как только я выходил, окружали меня с криками: «Меня, меня возьмите!»
Но судьба на этом фильме каким-то странным образом опекала меня. Появился оператор Лебешев, композитором был мой дядя Вениамин Баснер, а девочка, оказалось, всегда была тут, под боком, внучка второго режиссера Лена Проклова. Она была способная девочка, но совершенно не похожа на ту, какой я поначалу представлял себе героиню. Она всегда переигрывала всех на пробах, а я все пытался найти кого-то лучше нее, пока не понял: не найду.
Это было время усердной работы. В отличной форме — Ролан Быков, бог моего детства (мы ходили с ним в один театральный кружок), собрался прекрасный человеческий ансамбль — и мы снимали. Первый, кто сделал «большие глаза» на отснятый материал, был звукооператор Юра Рабинович, которому я сказал: «Слушай, мы снимаем какую-то хронику…» Ведь в то время это был новый для кино язык.
Володин сидел в Ленинграде, иногда отсматривал рабочий материал большими кусками. Он был вообще очень жесткий человек. Когда, скажем, он увидел, как я снял любимую свою сцену — разговор мамы с дочкой (я гордился ею!), он был возмущен: «Это сентиментально, это сопливо, это ужасно, так не может быть! Давай посмотрим все дубли». Я понимал, что у меня в руках хороший материал и дубли ничем не отличаются, но мы все посмотрели, и он выбрал: «Вот этот дубль лучше». А это был тот самый, что он смотрел вначале… Смотреть материал было для него всегда огромным напряжением, и он этого не любил.
К концу картины у меня было чувство, что все равно между замыслом и фильмом огромный разрыв. Я показал картину Ромму (он первым посмотрел ее целиком), и наступил странный момент. Я отнес в монтажную коробки (естественно, никаких ассистентов у молодого режиссера не было, я сам таскал все), иду назад, а меня встречают люди: «Сашенька!» (Долгое время, лет пятнадцать, на студии не было молодых режиссеров, мы — Тарковский, Шукшин и я, роммовские ребята, — пришли после огромной паузы, поэтому я был мальчик «Сашенька».) «Сашенька, у вас прекрасная картина! Сашенька, какая прекрасная картина!» Что такое? Ведь никто не видел. Оказывается, Ромм аккуратно обошел все комнаты и в каждую дверь сообщил про «прекрасную картину». Это он создавал нам репутацию. А Володин в создании репутации не нуждался. У него была театральная биография…
На «Мосфильме» существовали тогда очаги либерализма: IV объединение, где я работал, III объединение Ромма. И следующий сценарий, «Фокусник», Володин написал для нового объединения — Г. Чухрая. Я уже думал, что всю жизнь буду снимать только Володина, ничего другого не хотел — как та лошадь, которая по¬ела пирожков и не желала сена, — а вдобавок я хотел взять на главную роль, фокусника, — Ролана… Но у Володина на это счет были другие планы. Он не любил, когда его с кем-то связывали, он был маньяк самостоятельности, независимости, свободы. Я не очень это понимал, а сейчас понимаю, что он был прав, что в стратегии его жизни это было правильно. И Тодоровский сделал замечательную картину, и Гердт был нежнее и трогательнее, чем сделал бы Ролан…
Слава Богу, это не разрушило наших с Володиным отношений, его очень любила моя жена (с ней он общался еще более тесно, чем со мной).
В чем заключалось его влияние на меня? Тогда все было по¬строено на компромиссах, из них состояла вся жизнь. Нас даже учили: если вы сумеете сделать хотя бы часть, хотя бы 30% своего, того, что хотите, — уже хорошо, зрители это вычитают (тогда зрители смотрели кино внимательно, не то что сейчас, и вычитывали смыслы, подтексты, намеки). Ощущение компромисса ломало людей. Тарковский делал первую картину, а у него худруком был кагэбэшник, тупой режиссер Журавлев, который говорил: «В трудные времена, в 1937 году, партия поручила мне освобождать ¬Родину от врагов!» А после 1937-го он решил, что одарен по части ¬искусства… И Тарковский с такой яро¬стью лаялся с ним на худсоветах! Мне бы и одного такого худсовета хватило… Я говорил: «Андрей, плюнь ты на него!» — но для Тарковского бешеная оборона стала нормой.
Я помню, как Шукшин сидел в декорации и плакал…
А Володин показывал: возможно жить бескомпромиссно! Не хочешь компромисса — уходи из кино, но это можно — так жить. И действительно, чтобы жить, нужны были ярость Тарковского, бескомпромиссное безумие Германа, которого нельзя было переломать… И Володин показывал, что можно быть свободным человеком.
Авторитет его был с самого начала чрезвычайно высок. В Москве его приняло объединение «Юность», которым руководил хороший драматург Н. Хмелик, большего авторитета, чем у театра «Современник», не было ни у одного театра, вдобавок — легендарный БДТ с аурой товстоноговских «Пяти вечеров» (для меня этот спектакль всегда был знаком: вот к чему нужно подтягиваться!). Так что он делал то, что мог себе позволить. Он был достаточно разумный человек, и его свобода аккуратно вписывалась в рамки того, что можно. Он до предела заполнял эти рамки, но не перебирал.
В кино он был свободнее, чем в театре, у него был точный и жесткий глаз, он хорошо и правильно выбирал себе режиссеров. И если Элем Климов был уже проверенным режиссером, то Петя Тодоровский только дебютировал.
Я могу сказать про него то, что Б. Метальников сказал про другого моего друга и бога — Юлика Дунского: «Его мягкость обманчива, она — на толщину кожи, а дальше там — чистая сталь». Володин тоже был мягок «на толщину кожи», дальше была чистая сталь. Переделать что-то, чтобы стало лучше, но от этого не изменилась суть, — тут не было никакой проблемы: он садился и писал. Но если он считал, что это не нужно, — не было силы, которая могла бы заставить его это сделать. Он просто уходил. Я помню, что мне хотелось закончить фильм пафосным монологом, чтобы Ролан сказал какие-то слова… Бредовая и совершенно бессмысленная идея. И Володин мне сказал: «Нельзя, нельзя написать словами то, что люди должны почувствовать без слов. Финалы должны делаться как балеты — без единого слова». И там на самом деле все есть: есть пафос, есть труба, есть неуклюжий Ролан, который говорит свою спутанную речь. И от этого у людей возникал комок в горле, как и в финале «Пяти вечеров»… После «Звонят, откройте дверь!» ВГИК устроил самую сильную в моей жизни овацию, они аплодировали стоя. Ничего лучшего в моей жизни не было.
Не излагая никаких ремесленных советов, не давая никаких уроков, Володин каким-то образом руководил процессом, духовно направляя фильм. Не было актера, которого он бы забраковал. Вообще, роль была написана для Василия Васильевича Меркурьева, большой грузный трубач — это было бы трогательно. Но Меркурьев болел, не смог сыграть, а мне очень хотелось снять Ролана, и я осторожно, готовый отказаться, показал Володину пробы Ролана — и он сразу согласился. Такому он был достаточно открыт, для него как для театрального драматурга текст, который превращается в людей, значил очень много, он любил эту работу и понимал в ней толк.
Практически это и была моя школа. Я выпустился из ВГИКа со всеми предрассудками и недоученностью ВГИКа (занимались в основном самодеятельными упражнениями с пленкой и актерами), и для меня было очень важным, что я попал в среду Володина, «Современника».
Безумства его независимости хорошо известны. Я помню момент, когда Володин решил снимать кино. Ему покровительствовал в этом один большой чиновник из Госкино, такой «раздвоенный» человек, потом покончивший с собой (душой он был с Володиным и такими, как он, а на совести у него было много чего…). И вот они пошли в ВТО (это было тогда единственное место, где встречались и говорили), как будто поладили, сидели, выпивали — и вдруг после очередной рюмки Володин не выдержал и выплеснул ему в лицо все, что о нем думает. В отчаянии пришел к моей жене: «Что я наделал, я все погубил, но я не могу сидеть с ним и смотреть в его подлые глаза, притворяться, что я его друг…» Взрывался каждый раз, когда от него требовали какого-то ¬компромисса.
Так было всегда и до самого конца.
Чем он так важен? В то время, когда все было ложью, любая форма правды (хоть чуть-чуть больше правды!) значила уже много. Тем же самым действовал Герман: на утоптанном поле военных фильмов вдруг появилась «Проверка на дорогах». И чиновники сразу поняли: вот так выглядит их идейный враг. Володин в этом смысле был опытнее, умнее, старше. Не надо делать из него камикадзе. Он до предела развил то, что было можно делать, а идущие за ним сделали следующие шаги.
Ни один из его фильмов не лег на полку, хотя все фильмы, в том числе «Звонят, откройте дверь!», принимали тоже не один раз. Говорили, что мы сняли пародию. «Как так, — говорили нам, — эта девочка не воодушевлена тем, что делает?!» — «Но она делает это для любимого человека. Если бы он послал ее искать оранжевых лягушек, она искала бы их». При этом картину каким-то образом поддерживали комсомольские власти: для них было важно, чтобы хоть что-то про них было сделано… Володин все понимал и говорил: «Им не надо много. Им надо мало. Ты должен в очень незначительной части фильма показать, что ты их уважаешь. Больше всего они ненавидят, когда их нет. Когда они присутствуют — им уже достаточно». Володин чрезвычайно внятно понимал ситуацию. И то, что можно, до конца заполнял правдой.
После этой картины я попытался пойти на шаг дальше в картине «Гори, гори, моя звезда» — и хлебнул по полной программе. Ее закрывали и раз, и два…
Он любил кино, после театра оно воодушевляло его обилием новых талантливых людей.
Володин совершенно не выносил, если оказывался на кого-то похож. Он должен был делать то, что никто до него не делал. И если режиссер предлагал стереотипы — был абсолютно нетерпим. Сейчас странно говорить об этом, потому что все его идеи растасканы, пошли в рост. А он не работал ни в чьем дискурсе, был абсолютно оригинальным человеком, хотя блестяще знал законы ремесла. В то время как авторы заключали договора на заявки, брали аванс (а авансы никто, естественно, не возвращал: пять-шесть авансов — вот и живи!), он не заключал договора на заявки, он сразу приносил готовый сценарий.
Во всех аспектах своей жизни он был чрезвычайно независим.
Он совершенно уникально ощущал контакт с аудиторией. Как его слушали, как на него смотрели! Это лишало тебя одиночества, ты становился таким же, как он, узнавал свои ситуации. Его романтическая сущность всегда делала его драматургом для всех. Что бы он ни делал, внутри существовала романтическая тема: как выстоять в этой жизни? Никто из его героев не падал, потому что он сам был цельный человек.








Комментарии (0)