В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ… Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.
Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.
ЛЕО-ДЖОЗЕФ-КОНРАД-МАРИЯ ГРАФ ДЕ ЛАМПЕДУЗА И ОБЕИХ ИНДИЙ
На первом курсе мы не сомневались в том, что он знает все иностранные языки.
Кажется, звучала цифра 12. Двенадцать языков. «Ага-мэээмнон!» — летело к нам по-древнегречески. «Адриенна Лекуврёёёёё-ёр…» — овевало французским прононсом. «Ком-медия dell’arte», — произносилось отрывистым стаккато и с полным удивлением по поводу того, что некоторые студенты не только пишут, но и произносят это слово по-русски: «дель арте».
На первом курсе был ужас, мы чудовищно робели, а он был неумолим. «Прочтя вчера курсовую работу Саши… (все это — высокомерно и методично, с трагической простотой большого актера)… прочтя ее, я встал со стула и подошел к аптечке, чтобы найти в ней цианистый калий. Ибо я понял: я ничему не могу научить ваш курс. Я нашел цианистый калий и уже насыпал его в стакан, но вдруг вспомнил: я не прочел еще одну курсовую. Не выпуская стакана из рук, я углубился в чтение и скоро отставил цианистый калий, поняв: я спасен! Это была работа Марины…».
Как там в «Немой сцене» у Дрейдена кричит, врываясь на сцену, Бобчинский? «Я! Я! Я! Я! Я!» Я сохранила жизнь Л. И. Гительмана двадцать лет назад посредством курсовой.
О, Лев Иосифович, творец мифов и сам миф!
Учитель, воспитай ученика. Не только. Учитель, будь учеником своего учителя. «Левушка», — без всяких церемоний, при студентах, обращалась к нему Лидия Аркадьевна Левбарг, и Лев Иосифович мгновенно оказывался учеником. Именно от него (и потому это связано с ним) мы слышали о С. С. Данилове, В. В. Успенском, Е. Л. Финкельштейн. Он заставлял нас гордиться факультетом, за его лекциями и семинарами всегда стояла и стоит школа. Осанкой и интонацией он вводил нас в европейскую театральную традицию, будто сам только вчера оттуда (для справки: во Францию, театром которой он всю жизнь занимался, его, беспартийного, выпустили всего три года назад). Но, с другой стороны, именно он впервые вводил нас в другую (тоже вековую) традицию петербургского театроведения. Да что это я все о возвышенном?!
На втором курсе грянуло зарубежное СНО.
Когда через пятнадцать лет после окончания института ты вспоминаешь: «А что это было?» — и в памяти моментально возникает самое дорогое — зарубежное СНО (Студенческое Научное Общество, возглавляемое Гительманом), — становится понятно, кто Учитель.
Туда ходили все. Те, кто даже никогда не думал заниматься зарубежным театром, вроде меня. (Я мученически переводила какие-то негритянские пьесы только для того, чтобы ЖИТЬ в СНО.) Мы пили чай с сушками и сухарями, слушали друг друга, но главное — их, Льва Иосифовича, Елену Семеновну Варгафтик, а потом наступал момент, и Л. И. говорил «Мы едем в Таллин (варианты — Ригу, Вильнюс, Паневежис, Тарту)». Словно предвидел, что это станет когда-то настоящим зарубежьем… И мы ехали. А потом наступало 25 декабря и СНО праздновало Рождество — пирогами, свечками и капустниками. На семинаре по введению в театроведение Л. И. учил нас научному подходу к предмету. Потому нашу «сносную» жизнь с Гительманом подтвержу документально, выдержками из факультетских стенгазет той поры, драными клочками, сохранившимися у меня в шкафу:
«Мы ехали в Ригу. План был прост: бродим по городу, вечере смотрим в Рижском ТЮЗе премьеру „Иванова“ Шапиро и ночным поездом возвращаемся домой. План был прост, и ничто, казалось, не предвещало… Но неожиданности начались сразу же, как только мы ступили на латвийскую землю.
— А не съездить ли нам еще в Паневежис? — задумчиво произнес Л. И., неторопливо сходя со ступенек вагона.
— Натурально, в Паневежис, — бодро ответила часть наших голосов. И мы отправились осматривать Ригу, а Л. И. — звонить в Паневежис.
Мы гуляли по Риге уже девятый час без остановки, когда Л. И., неторопливо заворачивая за угол, задумчиво произнес:
— А не съездить ли нам еще и в Таллин?
— Натурально, в Таллин, — слабо отреагировала часть наших усталых голосов…» (это, кажется, 1973 год).
О, эти поездки, поиски каких-то общежитий по ночным прибалтийским закоулкам, ночевки на голых матрацах, на одном из которых обязательно отдавал недолгую дань Морфею совершенно неутомимый Лео-Джозеф-Конрад-Мария граф де Лампедуза и обеих Индий (как звали его в одной из наших пьесок). «Я хочу сказать как лицо официальное. Из профкома. Чужое лицо, со стороны. Почему я со СНО в Эстонию поехало? Узнать хотело, что там за прогулки у зарубежного СНО. Узнало. Больше не поеду. Спать они ложатся поздно: пока из театра придут, пока обсудят спектакли, что за день насмотрели, пока пьесу прочтут, которую завтра смотреть, пока концепцию выдвинут… В семь подъем. Потому как в десять уже репетиция у Вольдемара Пансо. Он опять спектакль ставит» (это, видимо, 1974-й).
«Ступив на вологодскую землю, все начали старательно окать. „Благолепие!“ — неустанно повторял Л. И. при каждом удобном случае. „Благолепие!“ — произнес он последний раз, ступая на эскалатор ленинградского метрополитена.
„Благолепие!“ — восклицали и остальные, но у них это получалось не так художественно. ЗАРУБЕЖНОЕ СНО ЗНАКОМИЛОСЬ С РУССКИМИ ГОРОДАМИ. У нас везде были хорошие экскурсоводы. Но если бы даже у нас не было хороших экскурсоводов, мы бы все поняли и узнали, потому что с нами был не кто-нибудь, а Лев Иосифович. Театроведы! Любите Льва Иосифовича! Он знает все! Он рассказывал нам о сортах рыбы, выловленной в тот день в озерах области, о породах овец, пасущихся на окрестных просторах. Когда мы остались без экскурсовода в Ферапонтове, Л. И., подслушав соседнюю экскурсию, тут же изложил ее нам, насытив чахлое повествование предшественника новыми подробностями из жизни старца Мартиниана (лишь раз Л. И. забыл имя своего героя и сбегал справиться о нем к мемориальной доске). У Городского вала в Белозерске Л. И. утверждал, что своими глазами видел, как приплыли в город варяги в 862 году» (а это — точно 1975-й, лето).

Поездка СНО в Литву. На вильнюсском вокзале.
Слева направо: Б. Дашдондогийн, Л. И. Гительман, Е. Вайс. 1975 г.
О, Лев Иосифович, творец мифов и сам миф!
На самом деле все просто: он любит студентов, а они — его. «Часть 3 — подарочная (это отчет об очередном Рождестве. — М. Д.). Эта часть была самая трогательная. Ее исполнял по собственной инициативе Л. И. Каждый из членов СНО и гостей получил книжку с цитатой из „Гамлета“, календарь с латинским изречением и табель-календарь, чтобы в будущем году член СНО не забывал о заседаниях. При свечах под музыку тридцать человек читали по латыни и переводили с английского…».
Европейская традиция в лице Л. И., конечно, сталкивалась на Моховой с бытом и нравами великой России. Иногда — непосредственно. Была тихая, нежная рождественская ночь. Самая рождественская из тех, что бывают. Мы расходились из института, безлюдная Моховая блестела изморозью старых стен и ровно-белой, не тронутой человеческими ногами, мостовой. И вдруг прямо ко Льву Иосифовичу подошел… совершенно голый человек. Он шел неспешно и, подойдя, вежливо поинтересовался: «Который час?» «Второй», — спокойно, как небожитель, ответил ему Л. И. Человек вежливо поблагодарил его и пошел дальше. Совершенно голый. Лишь минуты две спустя, когда Л. И. уже успел выразить восхищение встречным, два бегущих милиционера заставили нас сообразить, что институт окружен с двух сторон медвытрезвителями…
И до сих пор я поражаюсь Льву Иосифовичу, и до сих пор мне не догнать его. Судьба свела нас несколько лет назад в худсовете по народным театрам (это — одно из многих мест приложения сил профессора Гительмана). Что там миф о двенадцати языках! За три дня фестивального марафона у Л. И. хватает сил посмотреть и обсудить 16 спектаклей (я «ломаюсь» на тринадцатом…), а потом подводить итоги… И любить всех, и помнить, и поддерживать. Может быть, силы ему дает редкая сегодня благожелательность? Ведь он почти никогда никого не ругает.
Когда-то, на очередном рождественском СНО, от имени всех я сочинила Льву Иосифовичу вирши. Там были, в частности, такие строчки:
Мы Вас всегда упорно ждали,
И хлопала входная дверь,
И, опоздавши, Вы вбегали
Ну точно так же, как теперь.
Мы на стене в Зеленом зале
(А ведь под боком был декан,
И нас бы разом наказали.)
Писали робко: «Гительман!»
Прошло два, три, четыре года,
У нас все тот же бледный вид,
Все так же пакостна погода
И так же радостен Юфит,
И с Вами — бдения по средам.
И дым столбом (не видно лиц),
И нет конца у нас беседам
И щелканью вязальных спиц.
И нехотя кончаем СНО мы…
А на часах уж третий час…
И мы бредем пешком до дому
И вспоминаем нежно Вас…
В ЛГИТМиК придут другие дети
И будут Вас, как мы, любить,
И будут с Вами на рассвете
На СНО и чай, и кофе пить.
Так после нашего ухода,
Чтоб вуз наш вовсе не зачах,
Храните дальше год от года
И СНО, и кофе при свечах…
Давно уже нет зарубежного СНО, а Лев Иосифович есть.
На факультете студенты никогда не говорят: «Прогулял русский театр» или «Не написал курсовик по критике», — а говорят: «Прогулял Чирву» или «Завалил Титову». Они спрашивают: «Что у тебя по Барбою?» или «Что у тебя по Гительману?»
Каждого, кто начинает заниматься преподаванием в нашем институте и становится учителем, мне хочется спросить: «Что у тебя по Гительману?» Это такой предмет. Его нужно постоянно штудировать, чтобы вуз не зачах.
1993 г.
ВСЕ МЫ ВЫШЛИ ИЗ ГИТЕЛЬМАНОВСКОГО СНО
Все-таки Лев Иосифович умер неожиданно. В августе он был в Молодежном, сидел за компьютером в своей комнате, заполненной книгами, торжественно указывал на приоткрытое окно, когда его упрекали, что он не отдыхает на природе. Он писал главы в новый учебник по истории зарубежной литературы: закончил куски о Рабле, о Маргарите Наваррской и о Монтене. Он жил активной творческой жизнью, строил планы. Только что вышли составленные и отредактированные им фундаментальные коллективные труды — новый учебник по истории зарубежного театра, новая хрестоматия по истории зарубежного театра от античности до современности, огромная, в 45 авторских листов (он гордился полнотой материала в этой книге). В дальнейших планах была хрестоматия о режиссуре второй половины XX века. В его педагогической нагрузке стояли курсы лекций для новых групп студентов, летом он принимал творческие экзамены абитуриентов-театроведов, выбирал тех, кого хотел учить.
Все осуществилось бы, если бы не произошел несчастный случай.
В последней sms-ке он утешал нас: «Я ничего не боюсь».
У него был особенный стиль существования — приподнятый над обыденностью, противопоставленный житейскому мышлению. Возможно, в этом была некоторая ирония — «романтическая», противопоставление образов своего сознания окружающей реальности. И в прошлом было немыслимо искать в Гительмане хоть какое-нибудь отражение «простого советского человека», ему и обыденный русский разговорный язык как будто был чужим, а язык классической трагедии — своим, органичным, описывающим категории, в которых он существовал. Невозможны были попытки предложить в общении с ним уровень житейской логики и повседневного прагматизма. То есть когда такое случалось и мы говорили что-то банальное, он очень доброжелательно, ласково, грустно посмеивался над этим, как над шуткой. Его подчеркнуто положительное, превосходно-одобрительное отношение к окружающим делало общение непринужденным и приятным, но тут был и второй план: задавались пропорции, в которых и мы соотносили себя с классическими параметрами благородства, и если проявляли себя обывательски, это сразу чувствовалось. Несогласие с коллегами высказывалось в предельно возвышенном духе, напевным речитативом: «Ко-оленька, Ма-аинька, Ле-енонька!!! Я без-мер-но вас уважаю! Но у меня есть совсем кро-о-о-хотное соображение…» («крохотное» соображение полностью, до первооснов переворачивало точку зрения). Вообще, он был благодарным и внимательным человеком. Общаясь с Гительманом, невозможно было снизить тон, поскольку он был совершенно естественным в своей возвышенности. Он переходил не из одного обветшалого помещения государственного института в другое, а из особняка графа Стенбок-Фермора в училище князя Тенишева (те же здания, Моховая, 34 и 35, но — в предыдущих ролях). В юности Гительман занимался (хотя недолго) в актерской студии Ю. М. Юрьева, блистательного актера, овладевшего в начале XX века искусством традиционалистского театра. Он научился там той форме существования, которая давала спасительное двоемирие.
Даже для тех, кто хорошо знал Льва Иосифовича, его внутренняя жизнь была закрытой, и оставим это так. Заметим лишь, что в «романтическом» стиле его поведения было и следствие для педагогики. Его лекторская манера, приподнятая над бытом, позволяла описывать неординарные художественные явления, подводить слушателей к идеальному ряду мыслей. Я бы назвал его педагогическую технику «поэтической», он находил образные средства, соответствующие тем театральным явлениям, которые должны были возникнуть в воображении студентов. Он не диктовал формулировки, он будил фантазию (сознательно — так, как надо, направлял ее туда, где она создала бы образ обсуждаемого явления). Сама его манера, лексика, интонация были педагогически содержательными, семантически насыщенными. Поэтому его уроки давали энергию именно актерам, именно режиссерам, людям открыто-творческой природы, и не столько на уровне фактического знания, сколько в бессознательном, архетипическом ощущении важнейших для искусства вещей. Недаром студенты (без преувеличения: все и всегда) обожали Гительмана, чутье актеров не обманешь. Отступления от основного сюжета, которые делал «Лефощ», запоминались на всю жизнь, потому что они по-своему (что называется, контекстно) выявляли театральную суть эпохи, человека, события. Ну, кто еще покажет на исторической лекции, как ходили классицистские актеры «гусиным шагом»… Он ставил сплошь хорошие и отличные оценки, в основном отличные. В этой системе критериев кроется сложность. Это педагогика благожелательности. С высоты его представлений об искусстве он не вникал в разницу между ремесленной «тройкой» и усердной «четверкой», он даровал ученикам свое олимпийское благословение «пятерками», но чего стоили эти «пятерки», было ясно каждому, кто их получал, и чем более они были незаслуженными, тем более искренно было стыдно. Незаслуженные «пятерки» давали молодым актерам жесткую самооценку, а бывало — настоящий творческий импульс; иногда благословения Гительмана потом по-своему оправдывались. Ученики взрослели, и он становился не то чтобы авторитетным критиком, но кем-то близким, чье доверие надо оправдывать перед самим собой. (Впрочем, и «взрослых» он не судил строго, кажется, никогда в жизни не написал ни одной отрицательной рецензии, ему и его верному и вечному соавтору-спутнику Н. А. Рабинянц негативные отзывы казались неконструктивными.) Сорок восемь лет у него учились все, кто проходил ленинградскую-петербургскую театральную школу, — почти все, кого мы видим на сцене, кто ставит спектакли в Петербурге, по всей стране и дальше. И любой из учеников подтвердит: он преподавал необыкновенно. Уникальный случай, когда теоретик театра был искренне востребован, принят практиками в свой мир.
Последние счастливцы, которых он учил (и, кстати, очень любил), студенты Мастерской В. М. Фильштинского, менялись в почетном карауле у его гроба, помогали раскладывать бесконечные поминальные букеты, они там были как театральные дзанни, слуги старинной сцены, легкие, серьезные, в черных костюмах, они вносили в прощальную церемонию атмосферу бесконечно печальной гоцциевской сказки, атмосферу того возвышенного и изящного театра, о котором им рассказывал Гительман и который даже на похоронах не мог не возникнуть. Фильштинцы (и еще протестантская девушка-пастор и ее аккомпаниатор с флейтой) спасали Гительмана от прощания с миром в бездушном и антихудожественном советском заведении. Ему нужно было такое спасение от банальности. Говорят, с будущей женой Ниной Александровной Рабинянц на студенческих сельскохозяйственных работах, в совхозе, сидя на ящике для овощей, он объяснялся монологами Арбенина.
Он всегда существовал в контакте с традицией, в любом рассуждении были постоянные отсылки к предшественникам, часто к тем, кого он знал. О чем бы Гительман ни рассуждал, пусть даже об одном современном спектакле, он ставил его в систему истории, в генетику знания. Возможно, одним из важнейших этапов его собственного становления была кропотливая работа над текстом «Записок» Ю. М. Юрьева, охватывающих культурные эпохи от конца XIX до середины XX века; этими воспоминаниями он как бы наполнил свое сознание, сохранил их там, заархивировал, и впоследствии все узнанное и увиденное отражалось от этого тайника и приобретало соответствующие пропорции и смыслы. Театровед, который наизусть знает «Маскарад» Мейерхольда, на все последующее смотрит иначе.
Отторгаясь от обыденности, Гительман был и архаистом, и новатором. Он создал свой «запретный город» внутри ленинградского театроведческого факультета: СНО — студенческое научное общество по изучению современного зарубежного театра, просуществовавшее почти 20 лет в 60—70—80-е годы. Студенты (кстати, не только театроведы, но и режиссеры) переводили, читали друг другу и обсуждали то, что далеко выходило за рамки утвержденных в те времена программ, например символистскую, сюрреалистическую, абсурдистскую драму, Дилана Томаса, Йейтса, Ионеско, книги об авангарде, статьи Арто, книгу Эсслина «Театр абсурда», кстати до сих пор не изданную по-русски 1. Настоящие ученики Ежи Гротовского здесь показывали свой тренинг. Особенной формой жизни (и теперь я понимаю: нашего профессионального воспитания) были поездки в поисках того театра, которого тогда в России не было и который здесь считали если не «формалистическим», то выморочным. Гительман открывал ближнему кругу своих учеников режиссуру Юозаса Мильтиниса, Яана Тооминга, Эвальда Хермакюлы, Адольфа Шапиро, Йонаса Вайткуса, первые спектакли Эймунтаса Някрошюса, последнюю театральную работу выкинутого из советского театра Евгения Шифферса («Когда пропоет петух» в Каунасе). Кроме проникновения на территорию, находящуюся за официальными пределами русского реалистического театра и советского театроведения, СНО было исследовательской школой. Перевод малоизвестных текстов, внимание к неизученным фигурам, опора на исторические и биографические детали, исследование творческих манифестов людей театра и художественных групп, доверие к новаторским течениям, философия многополярности театрального мира, логическое превосходство источниковедения над теорией — это нерушимые законы историографии зарубежного театра, которые Лев Иосифович получил от С. С. Мокульского, А. К. Дживелегова, Е. Л. Финкельштейн, Л. А. Левбарг и на соблюдении которых строго настаивал всю жизнь. В этом он был тверд. В СНО складывалось мировоззрение учеников Гительмана (впрочем, и его самого), складывалось будущее его кафедры и науки о зарубежном театре. Эти люди, эти идеи и эти тексты прямо оттуда пришли в наше время. Стала возвращаться посланная им энергия знания. Пришли итоги и почести. Гительман получил звание академика гуманитарных наук (и он, конечно, был настоящим академиком) и звание Патриарха, учрежденное фестивалем «Балтийский дом», был номинирован на премию «Золотой софит» за творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру… Он не получил этой награды лично. Он ушел. А его дух, который прятался за восторженной возвышенной маской? Хорошо было ему здесь или плохо? Ушел он или остался? Это всегда будет тайной.
2008 г.
1 Книга М. Эсслина «Театр абсурда» вышла на русском языке в переводе Г. В. Коваленко в 2010 г. — Примеч. ред.







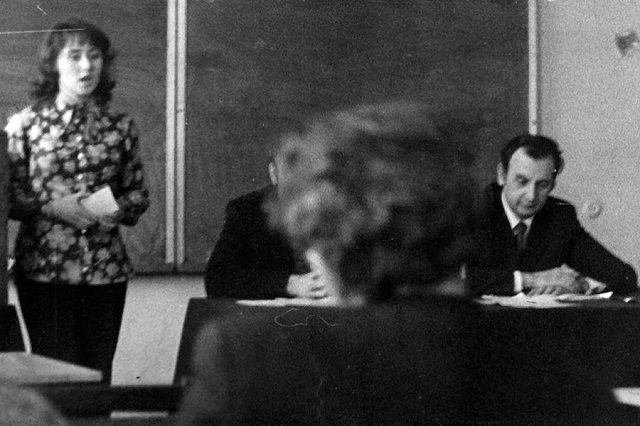

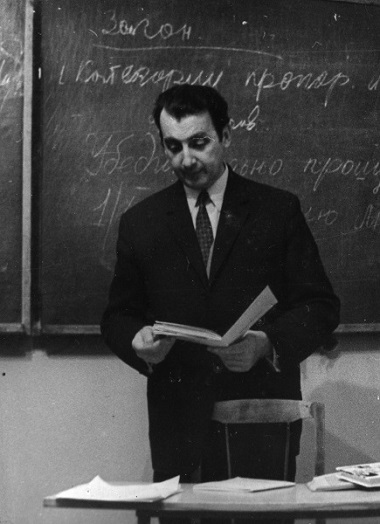



Какое волнение я испытываю, читая статьи о Льве Иосифовиче Гительмане… Прекрасно пишут его ученики — Марина Дмитревская и Николай Песочинский! В памяти оживают и по-новому осмысляются лекции и семинары, которые я имела счастье посещать у дорогого Льва Иосифовича… Я проучилась у него от первого курса до последнего, и защищала диплом театроведа под его руководством.Добавить существенно к написанным его портретам я не могу. Все сказано точно, сердечно и благодарно. И сердце мое сжимается от боли при мысли о том, что наш Учитель в полном и высоком значении этого слова уже не с нами.Но какая была крепкая связь между ним, Ниной Алекандровной Рабинянц и их выпускниками! Оказавшись в Америке, я посылала им свои публикации. Их оценка, их одобрение были для меня высшей поддержкой.Сейчас я осознаю, что помимо преклонения и уважения в сердцах наших была и остается любовь.