«Африканские сказки Шекспира», спектакль Кшиштофа Варликовского на фестивале «Радуга»
Новый спектакль Кшиштофа Варликовского «Африканские сказки Шекспира» («Новый театр», Варшава, Польша) — произведение странное, провокационное, неоднозначное. И с Шекспиром здесь все далеко не так просто. Взяв за основу три пьесы английского драматурга «Венецианский купец», «Король Лир» и «Отелло», Варликовский дополнил их текстами Данте «Божественная комедия», Дж. М. Кутзее «Летнее время», разбавил монологами Важди Муавада, написанными в сотрудничестве с артистами «Нового театра». Получилось почти шестичасовое эпическое полотно, переосмысливающее некоторые исторические явления (антисемитизм, расизм, концентрационные лагеря в период оккупации фашистами Польши), вскрывающее множество комплексов, особенно по части сексуального опыта; переворачивающее традиционные представления о морали и нравственности; по-новому открывающее нам взаимоотношения человека с человеком, человека с Богом.
Центральные фигуры, вокруг которых конструируется действие — Шейлок, Лир, Отелло, — одетые в новомодное платье, помещены в современный контекст. Одновременно и палачи и жертвы, заложники собственных страстей, движимые жаждой любви, они все страдают от ее неразрешенности: мужчина в мире Варликовского оказывается неспособным ни удовлетворить женские запросы, ни откровенно получить удовольствие. По итогам теста из возможных 30 баллов он всегда набирает 6. Он нежизнеспособен, а потому смертельно болен. Образ ракового заболевания, метафоры чумы XXI столетия, появившись в прологе, к финалу, проникая, поглощает почти каждого.
Не в лучшем положении и женщины. Здоровые, готовые к отношениям, ждущие ответных чувств со стороны партнеров, они обречены на одиночество и бездетность. Не спасает и религия: Бога нет, и потому уже давно «все позволено». Вечное воскресение, напоминание о «том самом Жиде» — это одновременно и острейшая, болезненная тема польского народа, и тоска по всепрощающему Богу. Оттого, видимо, и распятие неоднократно появляется в тексте спектакля, каждый раз представая в новом обличии. В первой части «перевернутым Христом» выступает Порция, отринувшая брак и принявшая постриг: в финале она, мраморно-белая, лежит, чуть согнув исхудавшие ноги, раскинув прямые руки в стороны. Ни дать ни взять — новый Иисус. Вот только лица ее не видно: она лежит на животе — Христос, отвернувшийся от народа. Далее со Спасителем сопоставляется чернокожий Отелло; после — Корделия, выбравшая в качестве символа обнаженное женское тело с широко расставленными ногами. Единственное, что остается прекрасному полу, — фаршировать себя окружающими явлениями, поглощая безвкусную пресную действительность. Иногда буквально: в первой части актриса, распечатав упаковку сырого мясного фарша, тут же, руками жадно заталкивает содержимое в рот. Иногда фигурально: Дездемона и Корделия (вторая и третья новеллы соответственно), дабы ослабить боль и снять синдром невыносимой легкости бытия, создают себе параллельные миры, выдумывают свое пространство.
Все темы, заявленные в спектакле, как видно, предельно серьезны. Почему же режиссер выбирает жанр экзотической сказки? Ведь собственно никакой Африки в работе нет, как нет в ней и сказок. Однако есть рассказ о диких страстях, сильных, разрушительных, необузданных варварских, происходящих в условном пространстве в период безвременья с использованием архетипических мотивов и образов.
Сценографическое решение: абсолютно черное пространство, отгороженное от нас высокой стеклянной стеной во всю длину сцены, создает иллюзию огромного аквариума. Обстановка внутри него предельно аскетична: стены выкрашены в металлический цвет; в центре стол и жестяное ведро; слева пять желтых пластмассовых стульев; справа — оцинкованный шкаф со множеством отделений. Перед прозрачным кубом, на авансцене стоит бордовый кожаный диван (во второй части спектакля — тахта). Условный аквариум весьма подвижен: в пределах одного акта (а всего их три) он перестраивается, трансформируется, демонстрируя полное отсутствие пространственных и временных границ. Чем не сказочный синкретизм? Со сказкой, пожалуй, материал Варликовского роднит еще и постоянное присутствие на сцене проекций животных и артистов в очень натуралистичных масках: крысы, коровы, свиньи, собаки, блуждая среди людей, оказываются гораздо приятнее и понятливее самого Homo sapiens. Собственно, человек — хомячок, крыска — объект, за которым ведется непрерывное наблюдение. Теряя контроль над собой и ситуацией, многие из персонажей-людей «оскотиниваются»: маска Человека спадает, демонстрируя неприглядное звериное начало.
В первой новелле целое поколение подобно пушечному мясу, это уже давно не люди — освежеванные тушки. Кульминация — сцена расплаты с Шейлоком, когда на разделочном столе лежит Антонио, заложивший душу, он превратился в тело, предмет торга и не более. Здесь же люди отождествляются с крысами: с помощью проектора то тут, то там появляется по одной высокой — в человеческий рост — крысе. Через пятнадцать минут грызуны заполняют всю комнату. Поскольку в поле трансляции изображения попадают и люди, то создается эффект если не поглощения, то подмены человека животным. Во второй новелле, рассказывающей об Отелло, белокурая красавица Дездемона сопоставляется сначала с обезьяной, бьющейся в истерических судорогах; затем с преданной собакой, днем и ночью ждущей хозяина, своего храброго мавра-генерала. В третьей, самой мирной и некровожадной части, центральным животным образом выступает кролик — символ быстрого и обильного продолжения рода. Обнаженная немолодая дама, рассказывая о бурной молодости, приводит семейство грызунов в качестве наглядного примера собственного и мужниного физического здоровья. Этот фрагмент наиболее поэтичен и гармоничен. Здесь впервые мистический, потусторонний гул стихает; уходят, стираются людские голоса, уступая место струнному квинтету Шуберта. Изменяется и свет: вместо холодного, почти стального — теплый оранжевый.
Сказочным оказывается и финал: исходный трагизм ситуации преодолевается. Не придя в себя после серьезной и продолжительной операции на горле (диагноз — рак гортани), Лир, заочно получив признание в любви и прощение младшей Корделии, умирает. Уходит в мир иной последний из могикан, сильнейший представитель рода людского. Нет ни Бога, ни идола, ни кесаря. Система ценностей обнуляется. Не остается ничего, даже родного слова. Есть условная общая национальность, обладающая единым, праязыком: к концу спектакля произносят исключительно латинские изречения. Следовательно, необходимо создать новый мир.
И этот мир возникает из ритуала, обряда, танца: на танец собирается вся труппа, выходят даже те артисты, что не были задействованы в спектакле. Под предводительством немолодой, порядком растолстевшей дамы, актеры, облаченные в нелепые кислотных цветов майки и трико, начинают робко, почти стыдливо, переминаться с ноги на ногу… Постепенно, движения актеров, приободряемых «наставницей», становятся все уверенней, в них появляется больше плавности, глубины, пластичности. И вот уже, словно забыв о недавних страдания, на сцене отплясывают солнечную, терпкую, чувственную сальсу. Аудитория, тоже изрядно настрадавшаяся за прошедшие пять с лишним часов, смотрит на происходящее с некоторым недоумением. Момент настолько несерьезен и неожидан, что первоочередной целью становится попытка осмысления его абсурдности. В этой попытке зритель и не замечает, как втягивается в общее действо, начинает подпевать общей мелодии, ловить ритм, бодро отстукивая такт каблучком, аплодируя все громче и громче.


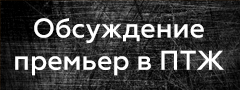






Спектакль Варликовского труден, и не совсем такой, как описан в этом тексте. Там, конечно, много всего намешано, можно долго голову «ломать» и интерпретировать по-своему. Тогда тут вами и Бог, и нежизнеспособность брутального главного героя. Может и так. Другое дело, что действительно хочется подробно разбирать каждую заявленную тему, тем более, что спектакль ими не исчерпывается. Можно и просто подивиться на то, какими, как кажется, простыми (может и наивными) средствами режиссер серьезничает. К Шейлоку, например, приходят двое, вместо человеческих голов — свиные, оба вроде мужского пола, но один вроде трансвестит. Они о чем-то беседуют, подтрунивают над Шейлоком, залазят на стол и «занимаются» там любовью. А под столом сидит еще одни персонаж с головой мыши, и не просто большой грызун, а мышь-еврей… и так далее. Описывать все это комично, хотя на спектакле чаще было не смешно. Режиссер обостряет все ситуации до комического или трагического исхода. Сценический «язык» на котором говорит режиссер для меня странен и непривычен, но за время спектакля надо стать полиглотом и научиться говорить на его языке, иначе может показаться, что спектакль прост. А это не так.
В тексте не указано что и Лира и Отелло и Шейлока играет один и тот же актер (его имени нет в программке). И одет он всегда в разные костюмы, может и новомодные. Но явно военный китель Отелло не то же самое, что белый фартук мясника Шейлока. Шейлок все же мясник и по совместительству ростовщик. Отелло — чернокожий (уж не знаю каким «волшебством», но голова и руки актера стали темного цвета), но не полностью. Все остальное тело, представленное нам в сцене массажа, белое и он этого не скрывает. Мавр или не мавр, может и не важно, но он не такой как всё окружение, он чужестранец и никогда не станет своим. И Шейлок никогда не станет своим, собственно от Антонио он добивается признания, что он еврей Шейлок — свой, может даже надеется, чтобы его полюбили и приняли.
И судя по спектаклю, персонажи — Лир, Отелло, Шейлок не сливаются в одну личность. И уж тем более не собираются удовлетворять ни женским запросам, ни чьим либо чужим. Со своими запросами бы справиться.
Пошлая пустышка, которая отчего-то объявляется оригинальной. Я не думал, что в 2012 году ходить по сцене голым и материться — это до сих пор оригинально. Никакой важной и актуальной идеи, никакого смысла, никакого разговора со зрителем. Театр должен волновать, а в данном случае ощущение, что кто-то нахамил. Это как современная живопись: намалевали разные краски и объявляют произведением искусства.
Минус организаторам: нельзя сажать зрителей, купивших билеты в 5й ряд, на 11. Нельзя ставить ряды так, чтобы видно было только партеру. Ощущение, что фестиваль для своих, а не для горожан
Сложности и оригинальности нет ни на уровне формы, ни на уровне содержания — осталось сконструировать то и другое на уровне театральной рецензии.
Честно говоря, я совсем не думала и не предполагала, что Шейлок, Отелло и Лир должны слиться в одну личность…
Хотелось бы ответить Егору и одновременно указать на еще один момент, мною никак не упомянутый: К. Варликовский прекрасно просчитывает реакцию зрителя!!! Блестяще переключает внимание с одного явления на другое!!! Меня это удивило и поразило. Все провокационные моменты он соотносит с текстом так, что исчезает неловкость, пресекается пошлость!!! Играет светом, отчего тоже происходит смещение акцентов. Все манипуляции осуществляются молниеносно и неожиданно.
И поразивший Вас обнаженный мужчина буквально через минуту своего пребывания на сцене теряет первоначальную значимость, поскольку звучит текст Данте. Физиология уступает место Духу, бренное тело — вечному Слову. Никакого хамства нет. Есть идеи, смысл, разговор со зрителем. И у меня лично волнение было. Можно принимать или не принимать, одобрять или отвергать ту систему, в рамках которой творит К. Варликовский, но нельзя не признавать: это искусство, абсолютно живой театр.
Яна, хотелось бы спросить у вас, так как я спектакля не видела, но по стечению обстоятельств являюсь католиком польского толка, почему вы трактовали сценический текст так, что обнаженная женщина с расcтавленными ногами является символом Христа?
Как я поняла, там идет развитие темы распятия. В каждой новелле женщины читают похожий монолог, где фигурируют слова о Спасении, призыв к Богу, после чего появляется фигура, визуально напоминающая крест. Так вот, в третьей новелле женщина, оставшись одна, подает разные сигналы, принимает разные позы. И от традиционной, в форме креста, доходит до того, что раскидывает ноги, расположив между ними фонарь.
Поняла. Просто удивилась — дело в том, в католичестве очень осознана половая принадлежность Христа, как и Девы Марии и всех остальных. Поэтому вариант женщины, символизирующей Христа, это скорее анти-Христос. Но повторю — спектакль не видела 🙁
Обнаженная женщина, кстати, это не Корделия, а Гонерилья, т.е. вся Ваша идея переворачивается в другом направлении. Это вообще характерно для атких спектаклей, их можно перевернуть в любом направлении. Это не художественное, философское, познающее мир явление, а просто постмодернистская игрушка, развлечение для интеллектуалов.
Жаль, что Вы не ответили Егору на его другое замечание. То, как был организован зал, находится просто за гранью понимания. С какой целью великолепный тюзовский амфитеатр (лучший зал в городе!) был перекрыт временным амфитеатром, с неравномерными ступенями, с неверным расчетом высоты и сокращенной шириной ступеней. При этом, первые четыре ряда были отданы контрамарочникам, а зрителям, купившим билеты за деньги (пусть и небольшие, но собственные) предлагалось просто послушать польский язык и почитать титры. Потому что выше пятого ряда просто ничего не было видно. Слышали, как оттуда раздавались возгласы: «Что там происходит, расскажите»? Стоит ли удивляться — как любит это делать М. Давыдова — что зрители пачками уходят со спектакля. Вопиющее неуважение к зрителю!
Gala_spb, хочу согласиться с Вами, но и уточнить: на рядах, выше пятого, сидели тоже контрамарочники и им тоже совершенно ничего было не видно! Сам я сидел (в основном — стоял) то ли на 11-м, то ли на 12-м ряду, вокруг меня, ниже и выше меня сидели — в основном, стояли, чтобы увидеть хоть что-то — критики, журналисты, молодые актеры, студенты и профессора СПГАТИ. Ко всем нам относилось это вопиющее неуважение… После первого антракта я пересел в обычные тюзовские кресла сбоку от построенного амфитеатра, стало намного лучше, но цельного впечатления я все же не смог получить. И судить о спектакле мне неловко — я в такой обстановке ничего не понял. Уважаю тех, кто смог разобраться, стоя в течение нескольких часов и глядя с большой высоты на еле-еле видные макушки артистов)))
Хочется поддержать возмущение от организации, хоть и неловко — все таки лучше бы спектакль обсудить… но может на будущее нас услышат ! Хочу внести немного ясности : у меня самой было недоумение ЗАЧЕМ ЭТО нужно было сооружать, но выяснилось, что станок был обязательным условием поляков, вроде даже в течении нескольких дней искали другие площадки, но закончилось тем, что мы видели… В любом случаи, если продаются билеты и на них написано «без места» (не имеет значения заплачено за него 100р, 500 или 3000 !), почему мне на входе выдают неизвестно какой ряд, с которого только слышно, это если учесть, что пришла я за 50 минут и зрителей ещё нет !? А при попытке выяснить от чего так, меня мило уговаривают, что «везде прекрасно видно» и я выгляжу склочной, капризной особой…а потом приходится скакать по залу в поисках обзора. Ах, да, на одно место выписывались по три билета и приходилось ещё и его отстаивать ! )) Покупая последний ряд бельэтажа с краю, я знаю на что иду и это мой выбор, а когда при равных условиях 2/3 зала ничего не видит — это вопиющее неуважение !!!
Потрясающий спектакль!!! Игра актеров выверена до мелочей. Нарастающий темп событий, смены картинок и великолепный музыкальный фон!!! Ненавязчивый, очень красивый и еще больше обостряющий трагизм происходящего на сцене. Пять часов пролетели на одном дыхании!!! Глазами не хотелось потерять ни одной мелочи, т.к. каждый актер был очень хорош. Спасибо режиссеру Варликовскому и артистам!!!
Фестиваль очень интересный, всегда ждем его, но настроение было сильно подпорчено администрацией ТЮЗа.
Об организации фестиваля отдельный вопрос ЗАЧЕМ??? Зачем так унижать зрителя, который если приходит на такие мероприятия, то ему действительно интересно. Хотелось бы с настроением смотреть спектакли и сидеть согласно приобретенным билетам. Но у администрации театра видимо другое мнение по этому вопросу. Там печатают свои билеты и раздают их при входе. Купленные билеты за деньги никого не интересуют. За порогом театра наши права заканчиваются. Зрителей рассаживают по своему усмотрению. Люди, купившие билет «без места», не имеют права выбрать свободное место по желанию. Возможность иметь обзор сцены организаторам не важна. Если 2/3 зала не видят сцену…. ну и что тут страшного, «вам дали хорошие места»- говорит администратор. Только мне ничего давать не нужно, я купила билеты давно, в начале продажи.
Главное чтобы на первых рядах посадить контрамарочников, остальной зритель не интересен.
Делайте закрытые показы и не называйте это Фестивалем.