Теория. Сумбур вместо метода.
«Театральное пространство Андрея Могучего» изменилось: стало интернациональным. 9 декабря ровно в 10 утра в особняке на Английской набережной, в котором, находясь в России, любил останавливаться будущий канцлер Германии Отто фон Бисмарк, собрались актеры, режиссеры, критики, художники — те, кому интересен современный театральный процесс. Повод — открытие ТПАМ-2013. Тема этого года — «Товстоногов. Метод» на примере разбора спектакля «Идиот» (в редакции 1957 года).
С одной стороны, установка на космополитизм, взаимодействие традиций (не только собственно театральных, но и шире — культурных) — принципиальное отличие лаборатории Могучего — 2013 от всех предшествующих. С другой — ирония судьбы, не иначе. В доме, где жил знаменитый немец, русскую классику обсуждают и пытаются понять датчане, французы, американцы, итальянцы, австрийцы, иорданцы. Хотя… Иноязычный режиссер вкупе с российскими художниками, театроведами, продюсерами и актерами театра «Lusores», выпускниками мастерских А. Праудина и Л. Эренбурга, — смесь гремучая, но любопытная.
Сложившиеся команды, работая в течение двух недель, пытались осознать, освоить и по возможности реализовать на практике метод Г. А. Товстоногова. Результатом должен был стать условно завершенный, готовый к показу эскиз одной из сцен «Идиота».
Для постановки были взяты следующие картины:
— «У Настасьи Филипповны»: Тоцкий, Епанчин, Настасья Филипповна.
— «Поезд»: Мышкин, Рогожин, Лебедев.
— «У Епанчина»: Епанчин, Ганя, Мышкин (камердинер).
— «Обмен крестами»: Рогожин, Мышкин.
— «Скамья. Сад»: Мышкин, Настасья Филипповна, Аглая, Рогожин.
— «Встреча королев»: Мышкин, Настасья Филипповна, Аглая, Рогожин.
— «У трупа»: Мышкин, Рогожин.
Задача сложная. Эксперимент. Провокация. Театральная авантюра. Настоящее сценическое хулиганство. И «против» здесь все: сжатые сроки, отведенные на подготовку фрагмента; разность менталитетов, дающая о себе знать уже на первой репетиции; отсутствие четких критериев определения собственно метода Товстоногова.
Для постижения загадочного метода «иностранным делегатам от театра» предлагался курс лекций. Е. Горфункель, И. Цимбал, Ю. Чирва, К. Гинкас и Г. Яновская, И. Малочевская в течение двух недель осмысляли роман, условия и контекст создания спектакля, но только не метод Георгия Александровича. Первую попытку приблизиться к определению способа работы Товстоногова с актерами, после семи дней работы лаборатории, сделал когда-то ассистент Товстоногова — Кама Гинкас; продолжила — второй педагог в классе Товстоногова Ирина Малочевская. За те полтора часа, которые длилась встреча, Малочевская произнесла столько терминов и дала такое количество определений, что перед иностранными коллегами сразу встала другая проблема, уже дававшая о себе знать на репетициях, — проблема языка.
Никто из режиссеров не имел дела с русскоязычными первоисточниками. С трудами Товстоногова вопрос закрыт ввиду отсутствия их переводов. Роман и адаптацию участники ТПАМа читали, в основном, на английском (получив сценарий за три дня до начала лаборатории). Все репетиции также проходили на английском — за каждым из постановщиков был закреплен переводчик, эту функцию взяли на себя студенты и выпускники театроведческого и продюсерского факультетов СПбГАТИ.
В итоге, люди, обладающие творческим мышлением, уникальным, оригинальным взглядом на мир, оказались поставлены в условия, когда они были вынуждены общаться и договариваться на усредненном, фактически обезличенном языке. Странная, парадоксальная, абсурдная для искусства ситуация. Рефлексия по поводу рефлексии, интерпретация интерпретации.
Возможно, низведенный до нуля вербальный тип общения должен был подвигнуть режиссеров и актеров к поиску иных форм и средств выражения. Но фокус не прошел. Итоговые показы оказались худшими за все пять лет существования ТПАМа.
Практика. Четыре комнаты. Наш ответ Тарантино.
Презентация проходила в холле и тех же комнатах, где в течение двух недель репетировали группы. Комнат — четыре, групп — семь. В каждом помещении установлены условные декорации, выставлен свет, следовательно, между показами были паузы, необходимые для смены интерьера. Актеры заняты, как минимум, в двух отрывках, им тоже требуется известное время на грим и костюм (терпению артистов отдельное спасибо и низкий поклон: им, пожалуй, пришлось труднее всех).
Кроме того, комнаты и холл — пространства небольшие, способные вместить человек 20, поэтому на показы смогли попасть далеко не все. Те, кто не попал, взяв подушки, ютились на ступеньках центральной лестницы и смотрели онлайн-трансляцию происходящего на большом экране. А те, кто попал, томились ожиданием искусства и, кое-как теснясь по углам, умирали от духоты.
Картина первая. Неожиданная.
«У Настасьи Филипповны». Режиссер Люси Берелович (Франция). Настасья Филипповна — Полина Теплякова, Ипполит и Тоцкий — Виталий Гребенщиков.
Епанчин — Андрей Бодренков — после первой репетиции ушел и не обещал вернуться. Зато Виталий Гребенщиков очень похож на Ипполита. Поэтому слова этого героя Достоевского (хотя в варианте Товстоногова он вообще отсутствует) становятся прологом к сцене торга. В огороде бузина, а в Киеве дядька.
Эпиграф эпиграфом, а эпизод с семьюдесятью пятью тысячами играется втроем, поэтому срочно на роль Епанчина вводят художника Дениса Денисова (мастерская Эдуарда Кочергина), текста не знающего, читающего с листа.
Полина Теплякова в роли Настасьи Филипповны, облаченная в черный мешковатый плащ, под которым только нижнее белье, смеялась, танцевала, истерила, агонизировала — играла лихорадку, но, в общем, в характер попала.
Остроумно был решен момент передачи денег. Вместо привычной стопки — трехлитровая банка. Вместо купюр — шоколадные монеты, завернутые в золотую фольгу, которые госпожа Барашкова, приняв от Тоцкого за «девичий стыд», в финале нетерпеливо разворачивает, с жадностью запихивает в рот и глотает, не жуя.
Мерзко. Противно. Трагично. Действенно.
Картина вторая. Экспозиционная.
«У Епанчина». Режиссер Мохамед Бонихани (Иордания). Мышкин(ы) — Андрей Бодренков, Виталий Гребенщиков, Александр Кошкидько, Михаил Николаев, Полина Теплякова, Юлия Шумкина.
По замыслу режиссера, все участники картины должны были играть разные ипостаси Мышкина. Взяв по одной реплике, они поочередно произносили бы текст, каждый на свой манер, чем рождали бы в сознании зрителя некий седьмой, наиболее адекватный роману образ князя Льва Николаевича. Мудреная и путаная концепция так и осталась концепцией. На практике все вышло иначе.
Сцена начиналась на лестнице.
Экскурсовод, приглашая собравшихся отведать теплого шампанского и закусить симпатичным кексиком, объявляет об открытии скульптурной экспозиции «В каждом из нас живет идиот».
В темной комнате, образовав круг, стоят, замерев, актеры, имитирующие статуи. Эти статуи якобы исполнены в разной технике. А. Бодренков в костюме середины XIX века, поджав руки, замер в углу. В. Гребенщиков, замотанный в прозрачную пленку, сгорбившись, примостился на подоконнике. М. Николаев с картонной коробкой на голове, из которой торчит только нос (дань недавней премьере ON. Театра), сидит на полу. А. Кошкидько, весь в серебре, со вздыбленными волосами, принял позу роденовского мыслителя. Напротив застыли две барышни в черных балахонах. Зрители находятся внутри круга. Периодически каждая из статуй оживает: делает движение и произносит фразу Мышкина из эпизода «У Епанчина». Затем Полина Теплякова, не видя никого, с фонариком в руке обходит зрителей, заунывно пропевая: «Пре-кра-ти-те». И стон ее невольно отзывается в сердце, и хочется прекращения всех и вся. Но — рано. Впереди еще пять сцен.
Картина третья. Элементарная.
«Поезд». Режиссер Ноэль Гуссаини (США). Лебедев — Денис Горин, Мышкин — Виталий Дьяченко, Рогожин — Антон Ляшенко.
Здесь все просто. Поезд так поезд. Взяли стулья, сели, постучали ногами, имитируя звук проносящихся вагонов, проговорили текст.
Картина четвертая. Экстравагантная.
«Обмен крестами». Режиссер Алекс Риенер (Австрия). Мышкин — Виталий Дьяченко, Рогожин — Алексей Фролов.
В немецком варианте Рогожин — художник, творец. Его комната уставлена современными скульптурами: в одном углу — алебастровый глаз, в другом — непонятное нечто. На стене — карта СССР. На окне — коллаж из журнальных статей, в котором недвусмысленно видится контур обнаженного женского тела. Непонятно, но стильно.
Парфен — личность необычная. Молится он стихами Афанасия Фета (веселая такая молитва «Я пришел к тебе с приветом»). И обращена она не к Богу, а к ней — недоступной Настасье Филипповне. Собственно дамы сердца в сцене нет. Вместо живой г-жи Барашковой — постамент, покрытый белой полупрозрачной тканью. Впечатление такое, будто новоявленному Пигмалиону только предстоит создать свою Галатею. До акта творения, впрочем, дело не доходит. Появляется Мышкин. Экстатичный, тоже непрестанно молящийся Виталий Дьяченко падает на грудь Рогожину. Далее, сменяя друг друга как в калейдоскопе, идут сцены ревности, удушения, покаяния, прощения и т. д., и т. п. Занавес. Аплодисменты.
Картина пятая. В духе Малевича.
«Скамья. Сад». Режиссер Лиза Нава (Италия). Мышкин — Виктор Бугаков, Аглая — Анна Петросян, Настасья Филипповна — Ниёле Мейлуте.
Побывав на выставке Казимира Малевича в Русском музее и вдохновившись увиденным, гостья из солнечной Италии пожелала разбавить классику авангардом. Первоначально сцена должна была представлять собой круг, задник — вращающийся двусторонний квадрат: одна сторона — черная — появление Настасьи, другая — белая — выход Аглаи. С декорациями ничего не вышло. Решение пришлось изменить. В результате не один «Черный квадрат» — вся трилогия: в черная комната; светлая Аглая в белоснежном, похожем на подвенечное, платье; страстная Настасья в соблазнительном красном наряде; раздираемый противоречиями Мышкин в белой рубахе и черных брюках.
Но даже так — плоско и предсказуемо.
Картина шестая. Непонятная.
«Встреча двух королев». Режиссер Мари Моллер (Дания).
Практически тем же составом (плюс А. Фролов в роли Рогожина) актеры перешли в эту сцену из предыдущей.
По мысли режиссера, эпизод должен был решаться в жанре ток-шоу. Настасья, Аглая, Парфен — ведущие программы, которым предстоит выбрать своего Мышкина. Мышкин, как и положено идиоту, сидит в зрительном зале и покорно ждет, когда его, будто бы случайно, призовут. Остроумный замысел так и остался замыслом. Единственный (буквально!) светлый момент — Рогожин в исполнении А. Фролова. Правда, на героя романа «Идиот» он похож мало. Точнее, вообще не похож. Одетый в белый светящийся и бликующий костюм, комментируя все происходящее на ломаном английском, предварительно достав из кармана мято-жеваную бумажку, он откровенно смешон. Уместность присутствия здесь такого… китчевого Рогожина — большой вопрос. Но, как бы там ни было, комический талант артиста А. Фролова налицо.
Картина седьмая. Кровавая.
«У трупа». Режиссер Бенуа Жиро (Франция). Мышкин — Игорь Опарин, Рогожин — Александр Кошкидько.
Сильно пьющий не то воду, не то чего покрепче, обреченно сидящий на лестнице Мышкин. Запертый в комнате, бьющийся в экстазе, пишущий кровью на стенах заветные буквы «НФ», облаченный в подвенечное белое в красных подтеках платье только что убиенной Настасьи Филипповны Рогожин. Встреча собратьев по несчастью, бурные объятия, танец, кровать.
Впечатление такое, будто Бенуа Жиро решил взять у Блие, Озона и Тарантино-Родригеса все лучшее разом и как-то сжато изложить, не забыв при этом про старика Достоевского.
Флер гомосексуализма. Ужас. Агония. Смерть.
P. S.
Андрей Могучий со товарищи уехал, не дождавшись окончания показов. Дальнейшие комментарии излишни.







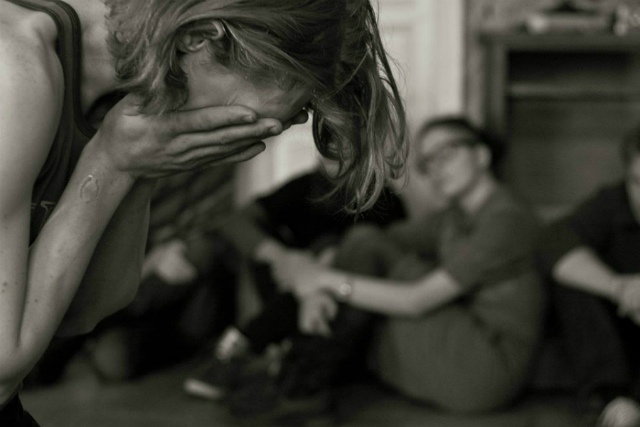




Совсем, ну совсем не понимаю изначальной затеи и ее амбиций.
Зачем нужен Товстоногов Иордании или Италии, если наши собственные Митрофаны, а также развитые театроведы и режиссеры понятия о нем не имеют? Никогда не забуду, как на верстке одного молодежного номера одна из авторов статьи на мой вопрос, почему она отбрасывает из иллюстраций как раз ту фотографию, где современный режиссер цитирует знаменитую мизансцену Товстоногова, ответила: «Я этого знать не знаю и мне это не нужно. Будет нужно — узнаю» (ныне она работает в БДТ, и на ТПАМе тоже…) Лекции были нужны скорее вот таким молодым соотечественникам, которые не доучились, знают о БДТ мало (а это видно по режиссерским лабораториям, на которых я бываю часто). И почему было не собрать российских режиссеров, особенно выучеников психологической школы (например, Женовача) и не заняться Товстоноговым с ними, а не с «неграми и китайцами»? Что за амбиция такая «отовстоноговить» мир, когда сами мы с этой традицией не взаимодействуем (и возможно ли это вообще?) Но для наших хотя бы «Идиот» — не архаичный бред, каким роман Достоевского казался некоторым пришельцам. Всё, просто всё вызывает вопросы… Знаю, как иронически и драматично воспринимали ситуацию наши молодые актеры, «воплотители» режиссерского интернационального бреда, на пальцах пытавшиеся объяснить что-то иностранцам. А сами-то они что знали?.. Много удивительного в нашем мире, господа присяжные…
А что, метод был? Мой вопрос — без всякой иронии — совершенно серьезный. Я могу ошибаться, но метод предполагает системность, преемственность, традицию, инструментарий. Многие и сейчас неготовый признать метод Мейерхольда, хотя по всему миру учат биомеханике… А в случае с Товстоноговым всё, на мой взгляд, опровергает преемственность
Да, мне тоже кажется вопрос о «методе» не вполне продуманным, демонстрирующим незнание вопроса. Был метод разбора пьесы, способ репетирования, но своего МЕТОДА Товстоногов не декларировал, оставаясь в поле Станиславского, действенного анализа (ну, иногда не без оглядки на Таирова — в «Оптимистической» и Мейерхольда в «Горе от ума» + «Тарелкине», но это были внешние прихваты…). Метода, строго говоря, не было и у Эфроса, что уж тут говорить о Товстоногове? Оба они развивали систему, тем более, что Товстоногов был невероятно изменчив и пластичен во времени. Потому продержал театр так долго.
Марина Юрьевна, мне как-то даже не хочется спорить по существу, потому что для начала желательно восстановить справедливость. Начну даже не с того, что Янина «интерпретация интерпретаций» уж слишком субъективная и чтобы докопаться до истины надо хотя бы почитать в дополнение к этому опусу текст Лены Мамчур, который вместе с видео этих самых «убогих» показов висит в блоге ТПАМ.
начну с того, что В ЭТОМ ТЕКСТЕ ПОЛНО ФАКТИЧЕСКИХ ОШИБОК. фактических, понимаете? то есть, он просто непрофессионально написан. я не имею права что-либо критиковать, потому что вообще на закрытых показах не была. но была на открытых мероприятиях. и с уверенностью могу сказать, что все эти пассажи про качество перевода — полный бред. с ребятами работала Анна Шульгат, суперпрофессиональный переводчик и театровед. я слышала, как она переводит Гинкаса и Слонимского и уж поверьте это не «на пальцах». и жалеть «лаборантов» вовсе ни к чему — условия их работы были лучше, чем даже на лаборатории в Линкольн центре. поговорить о специфике формата лаборатории — это можно, но здесь совсем другой разговор.
ребята не поленились, исправили все фактические ошибки, которые есть в тексте. пусть они повисят, ладно? для информации читателям (как можно передергивать факты) и в назидание молодым критикам.
1. Результатом должен был стать условно завершенный, готовый к показу эскиз одной из сцен «Идиота»
— целью был процесс, а не готовый к показу эскиз. Это не эскиз, а то, к чему в ходе событийно-действенного анализа пришли режиссеры, work-in-progress.
2. «У Епанчина»: Епанчин, Ганя, Мышкин (камердинер)
— в этой сцене не задействован камердинер.
3. … в течение двух недель осмысляли роман, условия и контекст создания спектакля, но только не метод Георгия Александровича.
— самый проблемный вопрос для лаборатории. здесь можно спорить,и все же К. Гинкас и Г. Яновская, И. Малочевская занимались именно методом Товстоногова, объясняли механизм его анализа.
4. Никто из режиссеров не имел дела с русскоязычными первоисточниками
— Люси Берелович даже вела репетиции по-русски, так как знает этот язык. Всегда при себе имели русский текст и сверяли по нему слова, понимали как это звучит и что значит — Бенуа Жиро и Алекс Рейнер. У остальных можно уточнить.
5. С трудами Товстоногова вопрос закрыт ввиду отсутствия их переводов.
— все режиссеры до их приезда в Петербург получили перевод статьи «О методе» из Зеркала сцены (Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. / Сост. Ю. С. Рыбаков. 2-е изд. доп. и испр. М.: Искусство, 1984. Кн. 1. О профессии режиссера. 303 с.)
и текст актерских тетрадей Смоктуновского (Егошина О. Актерские тетради Иннокентия Смоктуновского// О.Г.И., М., 2004)
6. Роман и адаптацию участники ТПАМа читали, в основном, на английском (получив сценарий за три дня до начала лаборатории)
— за три недели
7. Епанчин — Андрей Бодренков — после первой репетиции ушел и не обещал вернуться
— он не сбежал, а коллективным советом режиссера, актера и арт-директора лаборатории было принято решение — освободить Андрея от этой роли, для его большого погружения в отрывок другого режиссера.
8. Поэтому слова этого героя Достоевского (хотя в варианте Товстоногова он вообще отсутствует) становятся прологом к сцене торга
— перед участниками лаборатории не стояла задача следовать тексту Товстоногова. Они занимались его методом, занимались спектаклем 1957 года, а не инсценировкой и текстом.
9. Срочно на роль Епанчина вводят художника Дениса Денисова (мастерская Эдуарда Кочергина), текста не знающего, читающего с листа.
— можно проверить по видео — текст он знал и с листа его не читал. Режиссеру он был нужен в первую очередь как художник, перформер. Так же Епанчин в трактовке Люси Берелович — пешка, пустое место, поэтому ей не нужен был актер на эту роль. Это должен был просто перформер.
10. М. Николаев с картонной коробкой на голове, из которой торчит только нос (дань недавней премьере ON. Театра)
— никто из участников не видел этот спектакль ON.Театра и никак себя с ним не соотносит.
11. Напротив застыли две барышни в черных балахонах.
— Полина Теплякова, действительно, была в черном балахоне. Но Юля Шумкина была одета в белое платье
12. Первоначально сцена должна была представлять собой круг, задник — вращающийся двусторонний квадрат: одна сторона — черная — появление Настасьи, другая — белая — выход Аглаи. С декорациями ничего не вышло. Решение пришлось изменить.
— на первом показе Лиза Нава рассказывала свое первое впечатление от текста, но по ходу репетиций, пройдя определенный путь она изменила декоративное решение спектакля. Декорации никто и не собирался строить на лаборатории. Важно, что сначала режиссер выстраивал свой спектакль на сценографии, а к концу лаборатории пришел к необходимости выразить текст языком тела актеров.
13. Настасья, Аглая, Парфен — ведущие программы
— не ведущие, а герои программы
14. Андрей Могучий со товарищи уехал, не дождавшись окончания показов.
— Могучий уехал в 17 часов, т.к. ровно в 17 часов у него начиналась репетиция «Царской невесты». И он посчитал возможным опоздать на нее только на 30 минут. И кто такие «со товарищи»? Остался и его зав.лит Светлана Щагина, и его заместитель по художественному руководству в БДТ и директор Формального театра — Антонина Дзоценидзе, представитель лаборатории Линкольн Центра — Елена Виттенберг.
Саша, а можете ответить, какой смысл насаждать картошку в Иордании, если и у нас самих сорт вырождается?
Коллеги, если есть другие мнения — пожалуйста, блог готов выслушать всех по существу вопроса. Другие суждения? Вперед!
Марина Юрьевна — наши вопросы и возмущение не к дискуссионному моменту про метод Товстоногова а к реальным фактическим ошибкам и намеренным искажениям, которые извращают реальность. То есть ткань текста фельетонная, но выдает себя за реалистичный отчет. Именно поэтому мы упираем на факты, а не на оценочные суждения. Относиться можно по-разному — это воля автора. Ко всему остальному большие вопросы.
МЮ, раз у нас у самих вырождается сорт картошки — так давайте и окучивать ее не так, как требуется, а «как мне показалось»?
Леша, блог существует для дискуссии. Есть другие наблюдатели (не организаторы, а участники) — пусть пишут. Местоимение «мы» («мы» — сплоченный креативный кулак ТПАМа?) лучше употреблять не будем, а будем от себя, только от себя, а неот чести мундира. Про ошибки расслышала. За них отвечает Яна, пусть ответит. Что же касается отзывов о мероприятии, то Я, лично я, далеко отстоящая от тпамовского креатива, буквально «по дороге» слыхала гораздо более иронические. С разных сторон. От актеров, от учителей этих актров, от педагогов,с котиорыми ученики делилимсь странностью происходившего (типа, иностранные режиссеры, обремененные идеей о современности театра, понимали отношения Рогожина и Мышкина только как гомосексуальные, а роман вообще им понярь и дочитать так и не удавалось…) Город наш маленький, Леша… Я особо-то не вникала, просто впечателения о мероприятия не засекречены. Так же, как работавшая там (как и Яна) Лена Мамчур была в восторге. Вот пусть аргументирует. И я все хочу ответа: зачем наша неплодоносящая картошка в Иордании?))
Мимопробегайлу.
Не поняла. Я считаю, что окучивать товстоноговскую картошку должно на нашей почве. Сперва. Если начнет плодоносить — приглашать на практику Иорданию. Пока не вижу креативных усилий по окучиванию той традиции психологического театра, в которую вписывал себя Товстоногов.
МЮ, под окучиванием имелось ввиду «критически осмысливать»
Еще раз большое спасибо всем тем, кто заступился за ТПАМ-2013. У меня были большие сомнения относительно участия в этой дискуссии, поскольку тон, заданный текстом, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, я считаю неприемлемым — тем более, если учесть, что автор текста тоже работала на лаборатории, т.е., по идее должна знать ситуацию изнутри и могла бы избежать такого количества фактических ошибок. Из этого я делаю вывод, что факты искажены сознательно, чтобы представить все в подчеркнуто неприглядном свете. А для фельетона, уж извините, все это недостаточно забавно… Но оставим все это на совести автора.
Поскольку я участвовала в лаборатории как переводчик, то выскажусь на эту тему. По поводу «непонимания» чего-либо иностранными участниками лаборатории приведу несколько примеров. Во время одной из сессий, проводимых Александром Савчуком, американская участница Ноэль Гуссейни прекрасно объяснила, что такое сверхзадача и круги предлагаемых обстоятельств. Дело в том, что в США и во многих других западных странах преподавание актерского мастерства и режиссуры основано на системе Станиславского и производных от нее. Поэтому многие выпускники американских театральных школ весьма неплохо подкованы по этой части. Кстати, в Йельском университете работает профессор Дэвид Чемберс, который занимается именно Товстоноговым, тщательно изучая его творчество и творчество его последователей. Соответственно и для его учеников это отнюдь не пустой звук.
Далее. Во время встречи с И.Б.Малочевской я оговорилась и случайно сказала «событие» , а надо было — «обстоятельство» (когда устно переводишь несколько часов подряд, бывает, оговариваешься). Тогда режиссер из Дании Мари Моллер тут же задала уточняющий вопрос, и Ирина Борисовна похвалила ее за внимание. А все потому, что в Дании и в других скандинавских странах хорошо известны книги Малочевской о Товстоногове, она ведь там преподавала полтора десятка лет. А после выступления И.Б. мы обсуждали с Дэном Хенрикссоном из Финляндии тонкости перевода терминов «предлагаемые обстоятельства» и «метод действенного анализа» на английский. (Поскольку я переводчик-консультант двуязычного журнала «Изучаем Станиславского», издаваемого совместно Роуз Бруфорд Колледжем в Британии и нашей Театральной академией, то немало времени посвящаю именно вопросам перевода русских театральных терминов на английский).
В общем, примеров предметного разговора о терминах Станиславского и Товстоногова с иностранными участниками я могла бы привести немало — подумываю об отдельном материале на эту тему, возможно, для того же Stanislavski Studies.
Так что вопрос «зачем насаждать Товстоногова за границей» кажется мне риторическим, поскольку в некоторых местах он там уже «посажен», а кое-где и «пророс». Многие участники говорили о том, что надо перевести его книги, сделать титры к фильмам о нем, поскольку в этом есть потребность.
Стоит ли тратить на это силы, если у нас самих не все в порядке? Видите ли, театральное наследие России заслуживает того, чтобы принадлежать всему миру, поэтому я уверена, что на его распространение важно и нужно тратить силы. Опять-таки, по моему опыту работы в Stanislavski Studies, я знаю, что Станиславским, его учениками и наследием занимаются практики и теоретики не только в Англии, США, Канаде и Австралии, но и в Германии, Нидерландах, Италии, Финляндии, на Мальте и далее везде.
Что касается качества показов (согласна с коллегами, пишущими о том, что это все-таки лаборатория, поэтому судить о них и нужно по законам лаборатории, а не профессионального театра), на мой взгляд, все они были интересными (одни более, другие менее), но все свидетельствовали о том, что две недели вовсе не прошли даром и для иностранных, и для российских участников. Собственно, на сайте ТПАМа есть видеозаписи показов, так что все могут посмотреть и сами их оценить. Мне, например, неожиданным и содержательным показался отрывок участника из Иордании — уж не знаю, благодаря ли нашим бдениям или тому, что он сам прочитал и обдумал, по-моему, ему удалось найти весьма любопытное сценическое выражение присущей романам Достоевского полифонии.
Еще мне хотелось бы написать о том, что зарубежные участники были благодарны за то, что ТПАМ предоставил им «пространство свободы», в котором они могли сосредоточиться на сугубо творческих вопросах. Если театральная лаборатория в России становится «пространством свободы» для иностранных режиссеров — согласитесь, это не так уж плохо — при нашей-то ситуации с правами и свободами…
А закончить хотелось бы вот на чем: огромной удачей и радостью стали для всех участников встречи с нашими замечательными Мастерами — педагогами, режиссерами, актерами. Какие вдумчивые комментарии оставляли в Фейсбуке зарубежные участники по следам встреч с Ириной Цимбал, Камой Гинкасом и другими. Ведь у этих людей, кроме невероятного опыта и огромных знаний, еще и такой человеческий объем, такая магия личности.
Прошу прощения за некоторую сумбурность — думаю, что мне удастся написать об этом в другом формате, но пока что просто хотелось дать другую точку зрения (к тому же, меня об этом попросили).
Еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто написал о ТПАМе объективно. Уверена, что еще многие напишут.
Давно хотел задать свои вопросы, но не был уверен в том, что их прочитают люди могущие на них ответить. Кажется, в начале любой дискуссии необхоимо определится с терминами, понять — все ли её участники подразумевают под словом «метод» одно и тоже — 0) и что именно они под этим словом понимают 🙂 Если копать чуть глубже — то следующий вопрос (вернее два взаимосвязанных — один из которых сформулировала Татьяна) — 1) что именно подразумевается под «методом Товстоногова»? и — 2) а был ли метод? (ответ на вопрос номер 2 соответственно будет звисить от ответов на вопросы номер 0 и 1). Дальше — не совсем понятно какова цель (цели) лаборатории — 4) в чем заключается поиск (что ищем) и 5) каковы должны быть результаты — хотя бы на уровне предощущений (потому как именно в этом вопорсе среди присутствующих наблюдаются довольно значительные разночтения). В уже упоминавшейся Лаборатории ON’театр, например, таковым были эскизы спектаклей, а впоследствии и полноценные спектакли — здесь же декларируется, что такая цель не стояла — тогда какая? Результатом лабораторного эксперемента является либо подтверждение либо опровержение какой-либо гипотезы. 6) Что за гипотезу пытались доказать или опровергнуть участники этого события? 7) Этот вопрос сформулировала Марина Юрьевна, но меня он тоже волнует — почему именно иностранцы? Если Андрей Анатольевич отбирал лаборантов по каким-то критериям, то (поскольку мероприятие в результате получилось все-таки публичное) — хотелось бы все-таки понимать по каким именно, просто для того чтобы лучше понимать происходящее. 8) Если мероприятие задумывалось и реализовывалось только как часть внутритеатрального процесса (внутриБДТшного) и решало какие-то тактические и\или стратегические цели, то не вполне понятна цель приоткрытия этой кухни? — ну да в некоторых дорогих ресторанах посетитель может наблюдать за процессом приготовления блюд, и это тоже такой аттракцион, повышающий интерес и посещаемость заведения — т.е. по сути мы имеем дело с PR — акцией под видом лаборатории и главной её целью было справоцировать вот такие обсуждения? Или же организаторы пытались одновременно решить целый спектр задач, но и в этом случае хотелось бы понимать каких — ведь внятное их определение и декларация (хотя бы постфактум) для всех вовлеченных в процесс (а зритель, читатель, наблюдатель является таковым априори) будет таким же признаком уважения и приглашением к партнерству.
На мой взгляд больше пользы было бы от изготовления качественных субтитров к видеозаписям «Истории лошади» и «Мещан» ( в большом количестве иностранных переводов ), на съёмки развёрнутого рассказа о нём Зинаиды Шарко например. А так помоему больше напустили пафосного тумана. Вспомнился Фокин, на первых порах руководя александринкой, через каждые полторы минуты ссылавшийся на Мейерхольда.
Ой. А можно я три копейки? Я вроде бы незаинтересованная сторона — не принадлежу к тем, кто занимается ТПАмом — вообще все лаборатории смотрела только на видео, не работаю в БДТ и на А.Могучего (хотя, наверное, это одно из немногих мест, где хотелось бы поработать). К тому же , по моему глубокому убеждению, творческая лаборатория — это не тот факт искусства, который нуждается в оценке, обычно этот компот ценен прежде всего для самих участников — и оценить проделанную работу могут лишь те, кто находится внутри процесса, а какие-то сценические удачи — лишь приятный бонус, мне казалось, это какие-то очевидные истины для многих и, конечно, для того, чтобы понять цели и задачи лаборатории, процесс, оценить ту работу, которая велась, надо быть втянутым в это пространство. Ну. мне так всегда казалось.
Но! Вот я открыла этот текст два дня назад и была изумлена. Такие тексты обычно пишутся человеком, который не захотел понять или принять то, что ему показали. Более того, весь текст насыщен каким-то шорохом сплетен — когда получили тексты, кто сбежал с репетиций, когда ушел Могучий. Безотносительно вопросов о том, что было на лаборатории текст сам по себе — неприличен в этих оценках, он уничтожает на корню всю деятельность лаборатории, причем не анализом, а такими вот убийственными вещами, которые касались внутренней жизни процесса и вообще, наверное, не должны были интересовать критика. К примеру, в тексте не указан переводчик Анна шульгат, поэтому ты читаешь и думаешь — боже, как плохо все у них там обстояло. Потом узнаешь, кто именно был переводчиком и говоришь: стоп. Я прекрасно знаю, кто Анна Шульгат, знаю ее уровень, профессионализм и знания. Значит и то, что написано в статье остальное — находится в таком же сомнительном отношении с реальностью? Как я могу после этого верить хоть какой-то оценке автора? читать этот текст было неприятно.
Я читала и не верила, что все так плохо и бессмысленно могло обстоять на одной из интереснейших лабораторий. Включаю отрывки. Вот все утро сидела и смотрела отрывки, параллельно читая текст Елены Мамчур. Мы ведь можем сравнивать тексты двух молодых критиков? Почему-то у Елены Мамчур получилось интерпретировать отрывки и, по крайней мере, описать сценический текст таким образом, чтобы он не выглядел производным лажовой, бессмысленной работы всех участников процесса. Яна могла иначе оценить уведенное, но та степень оценочности и нарочитой фельетонности в описаниях по отношению к лабораторным опытам, которые даже на видео производят очень свежее впечатление, она зашкаливает. В тексте Мамчур тоже нет ста рядов анализа бытования метода Товстоногова в современном театральном контексте, но там есть уважение к происходящему. Мне кажется, сначала надо договориться хотя бы об этом — об уважении и партнерстве, когда речь идет о поиске. Ну вот как-то так.
И мне очень жаль, что те вопросы, которые задает, к примеру, Татьяна Джурова в комментариях, не обсуждаются в разговоре о лаборатории, а мы заняты только тем, кто что сказал из актеров про лабораторию… Помнится, великие артисты и про Мейерхольда говорили не самые приятные вещи. давайте теперь на историческом семинаре у Г.В.Титовой руководствоваться исключительно этими сведениями…мы получим альтернативную историю русского театра.
А я вот, прочитав этот текст, пожалел, что не был на лаборатории. Даже несмотря на некоторый негативный "флер", привнесенный автором (отчасти, может, и правильно, но не слишком аргументированно), из текста видно, что было много небанального и как минимум познавательного
Андрей, мне бы с лихвой хватило бы даже лекций от режиссеров и педагогов. Я бы уже думала, что счастье.
Режиссер Лиза Нава хотела оставить комментарий здесь, но у нее не получилось. Поэтому опубликую его я. И заодно перевод, любезно сделанный Аней Шульгат.
"Have the possibility to work on Dostoevskij at St Petersburg was a faboulus opportunity and a really brilliant idea and I thank a lot the TPAM-labs organizators for have invited us, we felt really lucky to be there. We have been selected from the New York Lincoln Center directors Lab by the organizators of the St. Petersburg TPAM-Lab. All of us we are professional directors. For me discover Tolstonogov's work it was really important. I am studying in these day all the informations we had during the lab. Tolstonogov was a strong director with a big personality. I wish, for example, one day in Italy someone will can organize a similar workshop on Giorgio Strehler work and invite directors from all around the world because spread this knowledge is so important for theatre workers".
"Мы получили замечательную возможность поработать над инсценировкой романа Достоевского в Санкт-Петербурге. Я считаю, что это отличная идея, и хочу искренне поблагодарить организаторов, которые нас пригласили. Нам очень повезло участвовать в этой лаборатории. Организаторы ТПАМа выбрали нас из числа участников Режиссерской лаборатории Линкольн-центра в Нью-Йорке. Все мы – профессиональные режиссеры. Для меня было очень важно познакомиться с творчеством Товстоногова, и сейчас я подробно изучаю информацию, которую мы получили в ходе лаборатории. Г. Товстоногов был значительным режиссером и сильной личностью. Хотелось бы, чтобы когда-нибудь кто-то в Италии организовал похожую лабораторию для изучения творчества Джорджо Стрелера и пригласил туда режиссеров со всего мира, ведь распространение этих знаний очень важно для театральных деятелей".
У меня один вопрос к автору. Название » Сумбур вместо метода» отсылает к знаменитой статье в газете «Правда» за 1938 год «Сумбур вместо музыки», после которой началась официальная травля Д. Шостаковича. Это случайность или постмодернистская игра смыслами?
Я думаю, что это художественная провокация (достигшая в результате цели). Вот интересно — вопросы порождают только встречные вопросы. А диалога не получается 🙁 И как-то так выходит, что присутствующие поделились на якобы «нападающих» на Лабораторию и вроде как её «защитников». Может быть имеет смысл предположить, что мотивации задающих вопросы организаторам описываются не глаголом — «нападаю», а объясняются сочетанием «хочу понять»?
Остальные комментарии режиссеров-участников ТПАМ и достоверную информацию о лаборатории можно прочесть на сайте Формального театра:
http://formalnyteatr.ru/novosti/feedback-tpam-2013/
Смешно, но на праздниках я, наконец, прочитала то, что все прочитали давно. Господи, какая же беда – наше театроведение (особенно молодое театроведение) в своей массе. Просто могильщики любых новаций и экспериментов. “Ну почему вы не можете видеть равнодушно (хотя бы) женщину, если она не ваша?” Почему не воспринимаете чужих идей, если они не нашептаны людям вами? Да, могильщиками быть, наверное, очень приятно – приятно ощущать свою власть — путь даже иллюзорную. Но прошли те времена и не дай бог вернутся. Сейчас качество профессии (даже театроведческой) опеределяется не словами (дорогие девочки и мальчики, поймите это, наконец), а действиями. Начните что-нибудь делать, поскольку никаких моральных прав на то, чтобы поучать, у вас нет. А вот начнете делать, и сразу отпадет охота лаять на слонов
Жанна, не очень понимаю,где мухи, а где котлеты.
Профессия критика не подразумевает «делать», а подразумевает как раз не якшаться с практиками и быть от них предельно независимыми. Не ходить за кулисы, не дружить, не пить чай, не советовать — не иметь с ними никаких дел кроме чтения их сценических текстов. Это классика. Они ставят — мы пишет. Закон профессии.
Искаженная жизнь заставляет всех нас, не во благо профессии, именно «делать». Уважения к практиками и пиетета к нима мне лично это за жизнь не прибавило, а ровно наоборот. И то, что у каждого критика теперь есть так называемые проекты — ненормально, к профессии отношения не имеет и только искривляет отношения с театром (говорю как «делатель» в разных местах и разных ипостасях). Если нас не разделяет линия рампы — мы становимся чем-то межеумочным. Сладкая отрава в виде общения с практиками и «делания» лабораторий, спектаклей, фестивалей, премий и пр. искажает все правила игры и лишает театры вотума доверия критику (он не независим, он закулисный «делатель»…) Состав профессии меняетсмя, «делатель» — больше не критик, он не смотрит на произведение со стороны. Поэтому молодым критикам лучше просто думать и писать, а не начинать срочно что-то делатть. А уж как они думают и пишут — вопрос возраста, опыта и пр. Но дело не в «делании»!))
Марина Юрьевна, вот тут по моему, возможен интересный поворот. Возможно в досетевую (и советскую) эпоху разделение на "ставящих" и "пишущих" было вполне рациональным и правильным, но с возникновением и развитием сети (которое в свою очередь на этой территории совпало с постсоветским периодом) эта сегрегация потеряла значительную долю смысла. Понятно, что и у "ставящего" и у "пишущего" существуют специальные инструменты и способы осуществления именно такого способа взаимодействия с миром, однако теперь между этими двумя "чистыми" состояниями теперь есть целая куча возможностей, не использовать которые человеку думающему, талантливому и активному было бы странно. Дрейф из театроведческого цеха в режиссерский наблюдался и в эпоху доинтернета, а с появлением таких площадок как ЖЖ и FB стало возможно и обратное движение. Так уж сложилось, что теперь высказыватся вне театра имеют возможность практически все режиссеры, и чего же тут скрывать, каждый пишущий скорее всего имеет в своей голове некоторую концепцию театра, которую так или иначе ощущает своим долгом реализовать. С возникновением лабораторного движения и у пишущего человека такая возможность стала более лучшей :). Понятно, что и в этой каше останутся и будут существовать "крайние", "чистые" позиции, но с расширением самого понятия театра, с выходом его из собственно театральных стен в медийное пространство удерживать такие позиции станет все сложнее и сложнее, ведь уже сейчас критик анализирующий некое действие атрибутируемое как "театр" вынужден рассматривать (и соответственно включать в контекст своего текста :)) не только структуру и образный строй самого действия, но и социальную, культурную и политическую среду в котором это действие происходит (вплоть до личных отношений между всеми агентами, ведь теория "семи рукопожатий" сократилась до теории "одного клика"), отслеживая и выявляя весь комплекс энергетических, культурологических, ассоциативных, информационных и прочих связей (и воздействий на разные категории зрителей тире участников) возникающих в результате осуществления этого действия, мало того ещё и включая в эти отраженные волны и своё высказывание по поводу художественного акта и предполагаемую реакцию на это высказывание и таким образом все равно воздействуя на театральный процесс (в самом широком смысле этого сочетания) опять таки практически непосредственно. Получается довольно сложно, но если по простому, то по моему, сейчас в России складывается новый тип человека театра, человека не являющегося строго "продюсером", "драматургом", "музыкантом", "художником", "критиком (театроведом?)", "актером", "режиссером", а скорее описываемого сочетанием "театральный деятель" — шире "деятель культуры", как бы это смешно и по советски не звучало 🙂 Есть в этом опасность свалится в какофонию и неразбериху от чего спасти может, имхо только четкое определение критериев художественного высказывания самим высказывающим — не обязательно в явной, но обязательно во внятной форме 🙂 Впрочем, я уверен, что и "чистые" типы тоже не сотрутся из местного театрального ландшафта, однако определять основной вектор движения будут скорее всего уже "деятели" нового типа, за каждым из которых тем не менее, в том или ином виде будет стоять та или иная "классическая" школа взаимодействия с художественной реальностью, тот или иной фундаментальный, базовый инструментарий одного из видов театральной (шире — культурной :)) деятельности, развитый и приспособленный для новых реалий уже самостоятельно. В Европе, насколько я понимаю, это уже произошло — у нас в силу монументальности традиций, которые некоторые называют "академическими", а некоторые "замшелыми" этот процесс протекает со своими особенностями иинтересными 🙂 завихрениями. Прошу прощения за мнгобукофф, надеюсь не занял у читающи слишком ного времени и внимания. Спасибо за возможность немного пованговать. 🙂