Вадим Леванов в воспоминаниях. Тольятти: Литературное агентство В. Смирнова, 2019
Полгода назад в издательстве Вячеслава Смирнова в Тольятти вышел редкий и оттого еще более важный двухтомник пьес, рассказов, коротких сценариев Вадима Леванова — драматурга, куратора и организатора фестиваля «Майские чтения», шеф-драматурга студии «Голосова, 20», учителя и друга многих по сей день пишущих авторов. 17 мая в печати появился третий том, как признается редактор и создатель сборника Вячеслав Смирнов — книга воспоминаний для своих и тех, кто знал, любил и помнил автора, в которую также вошли интервью и авторские очерки, специально подготовленные для данного издания.
С этим утверждением смело можно поспорить, поскольку, как ни странно, при всей кулуарности и частности темы, зацентрованной на одном герое, это книга про время. Про смену эпох, про новую драматургию, которая прорастала из бетонных коробок многоэтажек, обретала плоть, кровь и слово: где-то вербатимное, дословное, где-то абсолютно литературное — Розовское, Арбузовское, взятое от учителей Вадима, из Литературного института.
Это книга про власть и новую демократию людей театра, способных на пустом месте, поперек кордонов построить целую культуру документального театра, свидетельского театра, горизонтального театра. Театра, обращенного к человеку и говорящего с ним на одном языке.
Про команду, банду единомышленников, раскачавшую целый, по сути, город — промзону Тольятти — и до сих пор продолжающую качать и волновать культурное сообщество, пусть даже на других берегах: Невы, Москвы-реки, Днепра и пр.
Это важное культурологическое исследование о появлении социального театра в России в письмах Николы МакКартни, Дугласа Максвелла, Саши Дагдейл. История невероятно интересных, тоже социальных, российско-немецких проектов, осуществленных на тот момент при поддержке Казанского университета и Елены Шевченко.
Увлекательный диалог издателя с Джоном Фридманом, Фёклой Толстой, Евгенией Беркович. Лаконичные воспоминания в жанре эссе Кристины Матвиенко, Ярославы Пулинович, Натальи Ворожбит, Ивана Вырыпаева, Павла Руднева, Руслана Маликова, Елены Ковальской и многих других замечательных людей.
Эта, по меркам человеческой жизни, недолгая драматургическая веха, целое новодрамовское двадцатилетие титанов, открывших новые берега и воспитавших не одно поколение свободных, неподцензурных авторов. Да, для причастных — это молодость и вечный рок-н-ролл, но для совсем юных читателей — уникальные свидетельствования людей театра и гуманитарной науки. Особенно — подлинные письма Вадима, вкрапленные в ткань книги. Бесценные артефакты недавнего прошлого.
Да, в сборнике есть спонтанность и хаотичность подбора материала, оправданная абсолютной его открытостью: каждый причастный к судьбе Вадима мог высказаться и сделал это. Около ста человек разных профессий, конфессий и стран говорят о нем наперебой. Признаются в любви, теряются в датах и фактах. Огромный античный хор собирается на ступеньках книги, чтобы вступить в диспут с протагонистом — сорокачетырехлетним Вадимом Николаевичем, тридцатипятилетним Вадимом Левановым, пятнадцатилетним Вадиком.
И вот еще что: Леванов всегда мечтал, чтобы после него остался город, превратившийся в литературный миф. Почище чем Петербург. «Тольятти стоит на пустом месте, — писал он, — там нет никакой подложки, ты живешь в том вакууме и в той мифологии, которую видишь вокруг. Ведь если город появился с нуля, на пустом месте, то культурное пространство вокруг тебя обживается мифами. Даже человек становится притчей. Клавдиев, например, в каждой своей пьесе использует мифологию города, индустриального города, у которого не было в прошлом культуры и истории».
Так вот, этим городом стал он сам. Человек-город, человек-книга, человек-драматург. По-моему, круто.
И все это за 44 года жизни за вычетом детства, отрочества и юности. Мало ли? Но в этой бурной и кипучей деятельности был один едва заметный изъян — нехватка времени для реализации собственных проектов, — который книгоиздатели зафиксировали и отчасти исправили. Открывая двухтомник начатых и недописанных пьес, сценариев, рассказов, понимаешь, сколько важного и хорошо сделанного для себя он мог бы еще успеть. Но не стал, потому что искренне верил, что автор живет не в цитатах, как проповедуют нам постмодернисты, а в учениках. В Юрии Клавдиеве, Михаиле Дурненкове, Вячеславе Дурненкове, Кире Малининой, в соратниках и посеянных идеях.


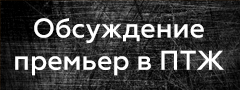






Комментарии (0)