«Жизнь за царя». По документам Исполнительного комитета партии «Народная воля».
«Театро Ди Капуа».
Режиссер Джулиано Ди Капуа, художник Сергей Гусев, автор идеи Илона Маркарова.
НАРОДОВОЛЬЦЫ И ОБЭРИУТЫ
Какие выкрутасы выписывает история! Ее фигурное катание поражает. Пируэт, исполненный актерским ансамблем спектакля, дорогого стоит. Заумная спираль, закрученная Клио, становится сюжетом. Метаморфозы, которые претерпело отношение к народовольцам в девятнадцатом, двадцатом и вот уже в двадцать первом веках, стали его живым нервом. Улицы, носившие имена террористов (Желябова, Перовской, Халтурина, Каляева), снова заголосили по-революционному. Зритель оказывается будто бы в музее-квартире заговорщиков. Их страстное стремление к свободе, пассионарная готовность к самопожертвованию обжигают — и тут же иронически переосмысляются лицедеями, в силу исторической дистанции знающими гораздо больше, чем их герои; возникает драматичное сопряжение с нашей эпохой тотального цинизма.
Эта двусмысленность ситуации (сшибка наивно-страстного прошлого и полумертвого настоящего) порождает ощущение абсурдности. Зрители, герои спектакля, да что там говорить — страна в очередной раз оказываются у разбитого корыта. История сожрала время. Ее двойные тулупы уже давно осточертели. А елка с горящими свечами не может восприниматься иначе как цитата из Введенского. «Елка у Ивановых» продолжается. Как когда-то написал обэриут Игорь Бахтерев: «Я понял вдруг, что много лет/Истории ловлю скелет».
Два разительно контрастных, разделенных промежутком в двадцать с лишним лет, письма Льва Толстого к царям и жгучий, от Достоевского, парадокс о теракте (это пролог спектакля в исполнении Андрея Жукова) сразу втягивают зрителя в упомянутую историческую спираль, начинают тему и задают высокую драматическую планку. Четверо актеров (Илона Маркарова, Александр Кошкидько, Павел Михайлов, Игорь Устинович) преображаются многократно (около двух десятков персонажей!), с захватывающей самоотдачей, им доступен полный спектр — от фарсовых нот до трагедийной высоты. Документ оказывается подлинной театральной материей, отлично организованной режиссером. По эмоциональной насыщенности это почти опера, хотя оркестрован здесь именно актерский ансамбль как таковой. Музыка же введена с хирургической точностью. Порой документ звучит на фоне музыки (Бетховен), порой он поется: цыганский романс, песня Высоцкого говорят текстами «Народной воли».
Перед нами партитура исторической спирали, политая слезами и кровью, и это человеческий документ, снайперски попадающий в фокус сегодняшнего времени. Спектакль мощный, при всей своей камерности, — страшный, горький и вдохновляющий, при этом полный настоящего театрального драйва. Актеры и подают надежду. Может быть, красное колесо, наконец, по инерции совершает свои последние обороты, и мы еще увидим не «стеб да стеб кругом», а…
Премьера была сыграна в квартире-мастерской на Моховой улице, а теперь вот в «Борее» на Литейном (как когда-то памятный «Мрамор»).
Спектакль начинается с доносящегося в полутьме издалека голоса Андрея Жукова. Голос приближается, Андрей Жуков, который безо всякого грима выглядит как представитель эпохи, проводит нас вглубь «Борея», туда, где на стенах работы современных художников — фантазии на тему «Народной воли». В глаза бросается инсталлированный в раме топор и картинка со звероподобного вида мужиком, подымающим над головой бревно, и подписью — кого-то из «митьков».
Если в начале февраля, когда «Жизнь за царя» показывали в одной из квартир на Моховой, это рифмовалось со сходкой подпольщиков, то теперь низкое сводчатое помещение «Борея» намекало на казематы Петропавловки. У Жукова, как у приговоренного смертника, на шее табличка: «Ф. М. Достоевский», которую он потом сменит на «Л. Н. Толстой», когда начнет читать письма писателя к царям — Александру III и Николаю II, разделенные примерно двумя десятками лет… В первом, от лица еще писателя — обращение к государю. Во втором — уже от лица пророка и философа — к «брату»… С просьбой о прощении, о том, что для победы над «злом» и «насилием» необходимо выдвинуть идею более светлую и прекрасную, чем та, ради которой умирают террористы.
Спектакль Театро Ди Капуа сделан по документам эпохи, но он не документален по средствам подачи. Он документален по сумме ощущений, вынесенных с него, по попаданию текста в место и время, в не готовое мириться с порядком вещей человеческое сердце.
Артисты, занятые в спектакле, как не героизируют тех, от имени кого произносят текст, не выводят их в роли святых и великомучеников, так и не развенчивают идею террора. Они заставляют увидеть явление в его полноте и сложности, в исторической перспективе, как сумму разнообразных мотивов (и личностных, и социальных) и как сумму последствий… Тем более мучительных для нас, для нашего восприятия, что история совершила виток и здесь, на новом круге событий, нам (зрителям спектакля) только-только предстоит их пережить…
Это замечательные актерские работы Илоны Маркаровой, Александра Кошкидько, Игоря Устиновича, Павла Михайлова. Портретных зарисовок нет. Перед нами письма, воззвания, судебные речи, мемуары Веры Фигнер, Софьи Перовской, Андрея Желябова, Макара Тетерки, Николая Кибальчича, Веры Засулич, Степана Халтурина и многих других… Образы в каком-то смысле собирательные, но это не революционные типажи, а «темы», отталкивающиеся от текста, от ситуации, разработку которых смело можно назвать музыкальной.
Мельчайшие подробности покушения на Трепова — как россыпь панических крупных планов; полубезумные требования провести вентиляцию в камеру и выдать журнал «Отечественные записки»; сердитое письмо матери; простодушная просьба — накануне казни — рассмотреть проект воздухоплавательного аппарата… Мозаика интонаций: откровенная патология, стыдливая задушевность, фанатизм, паясничанье и, наконец, глубоко осознанное и прочувствованное понимание невозможности мириться с существующим порядком вещей вкупе с пониманием предопределенности своей судьбы, бессмысленности жертвы, самоубийственности поступка, предчувствием «большой крови» вслед за малой… И в то же время — невозможности поступить иначе.
Собравшиеся за столом у рождественской елки террористы скандируют свои речи под аккомпанемент мексиканского трио гитаристов, произносят ритмизованные монологи на мотив песни Высоцкого, исполняют как политическую частушку, грузинское многоголосье или фламенко, читают манифесты от лица Деда Мороза. Артисты существуют страстно. Но страстно — по отношению к своим персонажам. Карнавализация образов задает дистанцию. Дистанция (они — не мы, не узники Болотной и не «пена дней») заставляет ощущать, чувствовать, глубоко переживать временную, историческую перспективу, повторяемость событий, трагическую причинно-следственную вязь.
В какой-то момент Илона Маркарова зажигает свечи на елке. Кажется, спектакль заканчивается, когда они полностью сгорают.


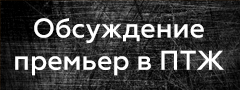








Что кажется мне интересным в этом непростом спектакле.
Театр взял материал, очевидно рифмующийся с нынешним временем социального протеста, взял документы столетней и более давности — и открыл речи народовольцев средствами панк-театрализации, этаким намеком на «пусси райот». Как девушки вопили: «Богородица, Путина прогони», — так народовльцы поют свои речи то под Высоцкого, то как цыганский романс (каждому документу — свой жанр) — и это дает doc. принципу отстранение, иронию и пафос одновременно. При этом собрание паяцев и экстравагантных кривляк происходит в реальном интерьере старой квартиры, за чашкой чая, под абажуром. И когда Илона Маркарова исполняет куски, поданные в чисто психологической манере (а такой контрапункт играет большую роль) — эти моменты становятся кульминационными.
Тексты о режиме звучат крайне современно, но герои лишены однозначной оценки, это сложный коктейль из искренности и театральщины, истовости и глупости. А в итоге — трагическая мысль о повторяемости времени, о невозможности жить так, как мы живем, о преступном режиме и фриках, желающих изменить режим. Но — фриках. Но — желающих…