Ленинградский театр музыкальной комедии — один из ведущих театров страны в своем жанре. В разное время его лидеры были неутомимы в поисках новых имен и пьес. Но с приходом В. Е. Воробьева, театр начал разработку нового для себя направления — мюзикла. Мюзиклы ставили и раньше, но "Свадьба Кречинского" (1973) и "Дело" (1977) "в художественном отношении едва ли не самые значительные образцы мюзикла, рожденные отечественным театром"1.
Итак, заявка сделана. За этими постановками последовали "Охтинский мост" В. Лебедева (1976), "Свадьба с генералом" Е. Птичкина (I977), "Трудно быть сержантом" Дм. Иванова и Вл. Трифонова (I981), "Ордер на убийство" В. Воробьева и Б. Гершта (I983) и другие спектакли. Все они различны по жанрам, но едины по творческому замыслу мастера-режиссера, создавшего их. Каждый из этих спектаклей явился определенной ступенькой развития трудного "легкого жанра", поиском нового направления, попыткой вырваться из круга приторно-слащавых либретто классических оперетт и привязчиволипучих, как ириски, мелодий Кальмана и Легара. Были просчеты, ошибки, актерские неудачи, но театр продолжал свой поиск.
И вот новая работа театра — спектакль "О бедном гусаре… ". Пьеса Г. Горина, Э. Рязанова, Т. Калининой. Романсы и песни на стихи М. Цветаевой, П. Вяземского, М. Светлова, Т. Калининой. Музыка — нар. арт. СССР А. Петрова.
Многие из нас видели телевизионный фильм под таким же названием в постановке Э. Рязанова, с участием известных актеров советского театра и кино О. Басилашвили, В. Гафта, Г. Буркова, С. Садальского и др.
Авторами взят старт там, где по традиции финиширует русский водевиль — 40е годы XIX столетия. Все персонажи заимствованы именно из водевиля. Здесь и провинциальный трагик, и его дочь-дебютантка, и молодой оболтус-гусар, и зловещий негодяй, и плут слуга, и благородный полковник. Эти персонажи, почти как маски комедии дель арте, кочуют из одного водевиля в другой. Но если водевиль обычно кончается благополучно, то тема этого сюжета идет гораздо дальше развлекательности и поучений.
Водевильность сюжета налицо: приключения провинциальных актеров Бубенцовых — папеньки Афанасия и дочки Настеньки при участии бравого гусарского полка, расквартировавшегося в том же городке. Комические ситуации, в которых оказываются представители городских властей, тоже есть принадлежность водевиля. Но авторы погрузили своих водевильных героев в сложные перипетии тогдашней российской действительности, и они вдруг начали жить совсем по иным, неводевильным законам. Авторы пытались в своей пьесе, а затем и в телевизионном фильме "столкнуть и перемешать две русские стихии: одну — разудалую, гусарскую, любовную, хмельную, жизнерадостную и другую — страшную, фискальную, тюремную, жандармскую, паучью, гнетущую"2.
Из сплетения этих двух стихий и родилась эта пьеса, родилось особенное жанровое смешение.
Почему именно этот спектакль появился на сцене театра Музыкальной комедии? В чем современность пьесы? О чем она? О выборе, который рано или поздно должен сделать каждый мыслящий человек в своей жизни. О выборе между выгодным и честным, между безопасным и благородным, между бессовестным и нравственным. Чудовищная проверка, затеянная авантюристом Мерзляевым, ставит всех персонажей перед этим выбором. Коварство и буйная фантазия действительного тайного советника породили иезуитский способ проверки: зарядив пистолеты холостыми патронами, о чем гусары не могут догадаться, привести на псевдорасстрел "заговорщика" и дать страшную команду пятерке гусар. Тот, кто откажется выстрелить в бунтовщика, следовательно, сам неверен государю, а, стало быть, и Отечеству. В сознании Мерзляева эти понятия отождествляются. Но преданность царю и верность Отчизне — это далеко не одно и то же.
Театру предстояла задача передать со сцены дух той легендарной эпохи, когда еще живы герои 12-го года, и дышит незабываемой близостью горький 1825 год. Поведать зрителю историю, которую может закрутить один человек и настолько запутать, переплести человеческие судьбы своими провокациями, что станет страшно от беззащитности и слабости простого смертного перед мощной, изуверски умной и хитрой машиной государственной безопасности. И в то же время рассказать о воинском братстве, солдатской чести и достоинстве русской армии, которую не сломит никакая бенкендорфщина.
Что же мы видим на сцене? На фоне живописного задника, изображающего Губернск (сценография И. Ведерниковой) сменяются разные детали оформления, в зависимости от сцен. То перед нами почти натуральные театральные ложи и бильярдный стол, то игрушечные аксессуары: карета, куклы-солдатики или деревяшки в руках Артюхова, передающие стук копыт; а то вдруг опускается рисованный задник кареты, в котором якобы едут герои. Нет единого стиля в сценографическом решении спектакля, эклектика чувствуется во всем. Более того, нет выдержанности и строгости эпохи 40-х годов, слишком много напыщенности, использованной, очевидно, для красоты, но не передающей сути содержания.
Но решение сценографии идет все-таки от режиссерского замысла. Создалось такое впечатление, что постановщик спектакля В. Воробьев, изобретательный на всякие выдумки, в этой работе использует абсолютно все, на что способна его фантазия. Он был занят не раскрытием конфликта, а придумыванием разных трюков. От этого возникло главное качество спектакля — захламленность. За всякими "штучками-дрючками" пропал основной смысл пьесы, и не был выявлен конфликт. Эклектика режиссерского мышления привела к тому, что остался совершенно непроясненным жанр этого спектакля, хотя авторы пьесы и предполагали жанровое смешение.
В постановке я насчитала три вступления — романс Насти, сцена Ведущих и сцена Мерзляева, Артюхова и Тюремщика. Если романс служит прологом, а третья сцена завязкой спектакля, тогда сцена Ведущих по логике получается лишней. И так на протяжении всего спектакля — Ведущие (Е. Зотова и В. Кривонос) комментируют все время то, что не требуется объяснять, этим затягивая действие и вызывая недоумение зрителя, как бы уличенного в тугодумии. Непонятна и историческая принадлежность Ведущих. То ли они показывают нам водевиль из 60-х годов XIX века, когда "творил" Козьма Прутков, то ли они с высоты сегодняшних дней снисходят до такой вот провинциальной истории. Тогда причем здесь их костюмы 40-х годов прошлого столетия, а репризы из наших дней? Все это можно объяснить режиссерским приемом "отстранения", но, к сожалению, этого не получилось, и вкупе со всем остальным это делает спектакль слишком загроможденным и надуманным.
Точно так же можно насчитать в спектакле три кульминации и три развязки.
Отсутствие единого режиссерского приема привело к непрояснению существования актеров в этом спектакле.
Роль Мерзляева — ключевая. Именно его действия толкают сюжет. Его выдумка с лжерасстрелом, его провокационные действия привели к столкновению Мерзляева с положительными персонажами. Мерзляев — его играют В. Костецкий и В. Тимошин — интеллектуал. Умен, наблюдателен, философичен. Он — "патриот", душа его болит за матушку-Россию. Прекрасно воспитан, элегантен, красив, умеет прекрасно одеваться, богат, влиятелен и, вообще, является украшением общества. Но есть и другая сторона, взглянув на которую, ужасаешься чудовищному несовпадению с внешностью этого человека. Холодный, расчетливый интриган с задатками палача, двуличен, коварен, фальшив, высокомерен. Для него слова "честь" и "совесть" — пустой звук. Провокация — вот его жизнь.
В. Костецкий точно передает нервный и вспыльчивый характер николаевского чиновника. Широк диапазон его эмоций — от нежно-ласкового воркования до истерического крика. Легок и непринужден переход от пения к танцу. Мерзляев В. Тимошина более злобен и прямолинеен. За его внешним фарсом чувствуется трусость, готовность в любой момент увильнуть от опасности. Костецкий же углубляет этот образ. Его Мерзляев прекрасно понимает, каким образом он может получить повышение по службе. Благородство, в его понятии, присуще только аристократам (куда уж там каким-то актеришкам!) и со службой оно никак не совместимо. "Нет благородных людей в России, нет. Не доросли. Рылом вот не вышли", -пытается убедить зрителя, но, наверное, и себя, в первую очередь, Мерзляев-Костецкий, когда он встает перед фактом почти массового благородства.
"Подсадной уткой" для проверки гусар Мерзляев выбрал актера Бубенцова. Исполнителям этой роли В. Копылову и Е. Тиличееву предстояло вместе со своим героем пройти, сложную духовную эволюцию, осознать себя гражданином и в решающий момент сделать свой выбор.
Бубенцову противна навязанная ему лживая роль, и перед лицом возможной смерти он не может лукавить. "Проверка — она всем проверка!" -восклицает актер перед тем, как выстрелить в себя, дабы снять грех с гусар. Бубенцов не знает, каким патроном — холостым или настоящим — заряжен пистолет, но, чтобы защитить людей от бесславия, сберечь свое человеческое достоинство, он играет в орлянку со смертью. Этим поступком плутоватый, нечистый на руку актеришка поднимается до огромных человеческих высот, демонстрирует подлинное величие души. Не выдержав этих психологических перегрузок, напряжения, он умирает от разрыва сердца. Гибелью искупает свою суетную и не совсем праведную жизнь. Вот как авторы видят своего героя: "В Бубенцове сосуществуют, переплетаясь, два начала — человеческое и актерское. Конечно, Бубенцов "играет роль", но, с другой стороны, он уже и безоговорочно верит в свое высокое предназначение. Его человеческая сущность становится вровень с благородной ролью, выбранной им. И в этот момент человеческое и актерское неразделима в нем. Происходит рост его гражданских чувств. Происходит процесс осмысления, когда порыв уступает место сознательному выбору, выбору, сделанному в результате постижения жизни"3.
К сожалению, В. Тиличев, острый сатирический актер, привыкший "комиковать" на сцене, и этот образ решает в тех же красках. Тут уже ни о глубине трактовки, ни о трагических нотах говорить не приходится.
У В. Копылова больше искренности и "жизни", он более точен в оценке ситуаций, трогателен в сцене "расстрела", но чего-то артисту не достает для полного раскрытия образа. Может быть, мешает то, что Копылов все-таки больше певец, нежели драматический актер, и это "певческое" всегда держит его на "контроле", не давая полностью углубиться в драматизм роли.
Образ Насти, как отмечали сами авторы пьесы, слабо выписан. И режиссерски, как мне кажется, он тоже решен весьма сомнительно. Если Настя — лирическая героиня, то к чему тогда ее фривольные куплеты со Спешневой, нюханье табака и всяческие "страсти-мордасти" в этой сцене? Если режиссер хотел придать характерность этому образу, тогда в таком же ключе нужно было работать и дальше.
Герой-любовник в этом спектакле — сам "бедный гусар". Алеша Плетнев в исполнении П. Дроцкого отпускает на свободу мнимого карбонария, не подозревая о том, что он — актер. Недалекий, но порывистый, глуповатый, но благородный, хвастливый, но честный человек, Плетнев безоговорочно верит в те высокие фразы, которые актерствующий Бубенцов декламирует для единственного зрителя. Отсутствие актерской техники, а отсюда нарочитость и напыщенность выделяют Дроцкого из ансамбля актеров, пытающихся самостоятельно вести линии своих героев. Очевидно, режиссер надеялся на личное обаяние и выигрышную фактуру актера, но этого оказалось недостаточно.
Слабая линия Плетнева, невыясненность конфликта делают совершенно неоправданным название спектакля. В финальной сцене телевизионного фильма уходящий из города гусарский полк отдает почести, достойные полководцев, разжалованному в солдаты Плетневу, и этим проявляя своеобразную демонстрацию солидарности, сочувствия и восхищения своим товарищем. Эта сцена оправдала название картины.
Но спектаклю бы больше подошли названия "О бедном папаше…" или даже "О бедном вельможе…", но только не то, что есть на самом деле. Создалось впечатление, что режиссер, закрутив интригу, не нашел выхода и бросил на половине пути своего "бедного гусара". Многие темы, которые затрагивает литературный материал, остались нераскрытыми в спектакле.
Музыкальное решение спектакля композитором А. Петровым более точно передает романтизм той далекой исторической эпохи. Сентиментальные романсы и бравурные марши, грациозная мазурка и веселые куплеты передают то динамику сцен, то эмоциональное настроение героев. А пленительный романс Настеньки на слова М. Цветаевой "Вы, чьи широкие шинели напоминали паруса…" стал как бы лейтмотивом всего спектакля, привнося в него щемяще-драматический элемент. Захватывают болью плясовые ритмы предсмертной песни Бубенцова "Погулял бы я, парень, на свадьбе твоей…", в которой чувствуется душевный и физический надрыв. Можно говорить о вторичности музыки А. Петрова, о перенасыщенности оркестровки, но только не о безликости.
Ведущие критики Ленинграда прочат спектаклю "О бедном гусаре…" долгую и счастливую жизнь, ставят его в один ряд со "Свадьбой Кречинского" и поговаривают о достойной смене. Но судя по всему, что я пыталась разобрать, получился весьма заурядный спектакль с именитыми авторами на афише. И говорить о "Новом слове" или очередной ступеньке в развитии жанра мюзикла в театре оперетты, увы, не приходится.
АНОНИМ
1 Орелович А. От "Моей прекрасной леди" к "Свадьбе Кречинского". Кампус Э. О мюзикле. Л. "Музыка", 1983. C.114.
2 Разанов Э. Неподведенные итоги. М. Искусство. 1983. с. 307.
3 Рязанов Э. Неподведенные итоги. с. 317.


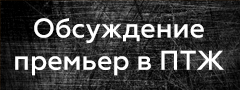




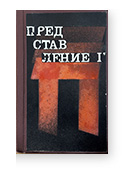


Комментарии (0)