И еще одна женская семья.
Как все знакомо — до боли уж знакомо: бабка, мать, дочь; один день из жизни, когда Любочке исполняется семнадцать. Остановка, итог. И что же? Чад домашних скандалов, незатухающее раздражение и исступление ссор, — как бы уколоть побольнее. Праздника так и не будет.
Несчастные, милые женщины, опомнитесь! Как случилось, что самые близкие, самые дорогие стали друг другу палачами? Откуда эта страсть к взаимному мучительству, когда ненависть застилает глаза, прорываясь в криках, слезах и обидах? Какой нескончаемый перечень обид ("…и я думала, не желая ее смерти, что только с ее уходом начнется моя настоящая жизнь…"). В ярости давят родную душу и разрушают свой дом, и тепло, и любовь. За готовностью к ссоре встает призрак сереньких будней, одинаковых в двадцать и в тридцать восемь, призрак транспорта в часы пик, нехватки денег и вечного ожидания счастья.
А потом станет ясно: ждать больше нечего, и Нина Петровна скажет, что кроме войны ничего лучше у нее не было. Чужая, раздражающая, с письмами от фронтовой подруги и кипой военных фотографий — такова бабка сейчас; наполненность бытия в прошлом. Проходит жизнь — пустая, сочится, как песок сквозь пальцы, день за днем; и Валентина, ее дочь, кричит, уткнувшись в подушку: "Мне тридцать восемь лет, а я еще не жила!"
Пока это только пьеса (Л. Разумовская. "Под одной крышей"). Пусть она покажется узкой и по-женски многословной. Две женщины с искалеченной судьбой, третья — у начала, — несложный сюжет; и текст, густо приправленный восклицаниями экзальтированных монологов. "Опять сублимированное женское одиночество", -скажет иной зритель. Но режиссер И. П. Владимиров нашел в пьесе другое. Как случилось, что незлые люди, роднее которых и быть на свете не может, стали мучителями, замкнулись в душевной своей глухоте и искалечили Любочку? Пусть это частная и чисто женская проблема, но она существует, и мы не в праве от нее отмахнуться. Ее, а не поломанную безмужнюю жизнь раскрыли в спектакле режиссер и две актрисы.
Прочная, "вкопанная" в реальность бабка — Е. Маркина. Широко расставленные ноги, рубленные жесты — устойчивым и крепким было военное поколение. Походка — преодоление старческого шарканья: на ногах все еще туфли, а не домашние тапочки. И в этом преодолении — сущность негнущегося характера. Нина Петровна твердо знает, как надо жить. По правилам. Нетерпимость, неумение понять, жесткость. Всегда собранная, деловитая, четкая только душевности и ласки в этой бабушке нет.
Незыблемы устои военной молодости, и человеческой цельности хватит на троих. Дом держится на ней; там будет чистота и порядок, пока она жива. На Валентину какая ж надежда, одна болтовня да лень: оценки сыграны подробно и точно. Ни один момент роли не пропущен, непрерывность проживания рождает абсолютную сценическую правду. Образ узнаваем в мельчайших своих подробностях, более того — социально узнаваем: понятны истоки характера и вся его биография. Хохотнуть с издевкой, да упереть руки в бока, да дернуть плечом — воспитание, полученное на коммунальных кухнях. Потому и "Мурмáнск" выговорить легче, чем "Мýрманск", "конечно" произносится через "ч", и навсегда осталась мечта о собственном домике. Но глубоко в основании, на котором стоит остальное, запрятана память о войне.
А рядом Валентина — Е. Комиссаренко — как отрицание всех комплексов предыдущего поколения: давний девчоночий бунт против матери. Но и он несостоятелен. Разговоры, слова, слова, — Валентина упивается словами, и вместе с нею мы утопаем в болтовне, в красивых фразах и неосуществленных мечтаниях. Писала в молодости рассказы и бросила, хотела стать певицей, но выучилась на инженера. Только невозможность смириться с возрастом, только подсознательное неприятие пришедшей зрелости. Да и как иначе: остались неизрасходованная молодость и невостребованная любовь.
Удивительно, что актриса смогла оправдать и обилие текста, и эксцентрику пластического рисунка. Руки с длинными выразительными пальцами — как много этих мелькающих рук, — артистизм поз и вычурность восклицаний. Запас женственности, кокетливого очарования — кому теперь это, ненужное и неиспользованное? И в спектакле возникает воображаемое зеркало. Выплеск эмоций, слез, криков — в зеркало. Валентина косит туда глазом, произнося длиннющие монологи, грациозно изгибается, воздевает руки и пьянеет, видя свое отражение. Игра в настоящее, но игра, в которую она свято верует. Не осмелимся назвать эту игру суррогатом. Восторг и ярость здесь подлинные. Танцевальные па — от того, что недолюбили и недолюбовались. Смешно и жалко.
Впрочем, фантазии эти далеко не безобидны. Витание в облаках обернулось эгоизмом и отсутствием элементарного жизненного начала. Можно валяться в постели с книжкой и говорить о гармонии Возрождения, если в магазин отправится "приземленная" Нина Петровна. Можно кричать о духовности, которую убивают в этом доме, и не сдвинуться с места, чтобы помочь бабке вымыть тарелки. Можно просто не услышать дважды повторенное признание дочери: "Я познакомилась с одним человеком, я так счастлива, мама…" Внешний мир — лишь толчок к собственным воспоминаниям. И опять потекли описания и гладкие фразы. Телевизор, военные фото, домик в деревне — что бы ни было, — все повод к бесплодным разговорам. Года прошли мимо, и мир замкнулся в коконе слов. И жалко, и страшно.
Однако, героиня Комиссаренко значительнее своего литературного двойника. В фантазиях взбалмошной особы порой слышен отзвук рассказов, которые в юности писала Валентина ("…темнота зала, прожженная взглядами.., певица на сцене.., длинные пальцы в кольцах, как у Иды Рубинштейн…) — нет, это не творчество, не талант, но хотя бы его замена. Слова ложатся не на бумагу — тают в воздухе, "и какой героический пыл на случайную тень и на шорох…" но в этом едва уловимый намек, что все могло быть иначе. Вот что удалось сыграть актрисе и вот что ставит ее в центр спектакля.
К сожалению, Любочка в спектакле просто не получилась. У Разумовской она мечется, разрываясь между бабкой и матерью, пытаясь утишить ссоры, и кончает ненавистью. Круг замкнулся. Ничего этого мы не видим. Будто вспомнив о забытых амплуа, актриса изображает инженю, натянуто и неудачно. Девичество и максимализм молодости остались только в тексте, и неправдой звучат отношения мамы и дочки. Их предает и малая сцена, являя нам одинаковый возраст актрис.
Но малая сцена театра "мала" лишь своей приближенностью к зрителю. Просторная, она предала и Владимирова-сценографа.
Роскошная гостиная с разбросанными уютными уголками. Белый резной, под старину, столик. Телевизор, мягкие кресла, столешница с лампой в огромном абажуре. И на стене изящная женская головка в овале. У каждой вещи свое выигрышное место. Вдоволь и воздуха, и квадратных метров.
Все это — вместо простой житейской тесноты, от которой стесненность и неудобства. Предметы не давят, не выражают навязанного вкуса бабушки — и нет скандальных будней, нет обреченности ежедневного тяжелого существования. Не в том дело, что сценография меняет авторскую ремарку, а в том, что красивость оформления уводит в сторону от содержания пьесы.
А балкон, так хорошо знакомый нам по "Игрокам"? Здесь он — всего лишь безликая цитата. Отработанный эффект. Ибо проверено: бросить реплику с балкона — это "работает". Но диалог, откровенный по тексту, но лишенный поля общения, — разорван, убит фальшью.
Неконкретная сценография связана с неконкретной режиссурой. Зачем постановщику понадобилось расцветить "будничную" строгую пьесу театрально-эффектными мизансценами? В очередном скандале под хачатуряновский "Танец с саблями" летают вещи: Валентина бросает их на середину комнаты, а бабка скидывает с балкона. Разноцветные тряпки парят в воздухе, взвивая подолы и складки. Зачем? Ни смысла, ни эмоционального впечатления это не прибавляет. Зато смотрится, развлекает зрителя внешней театральностью.
Для "красоты" — подаренное в день рождения платье спускается на веревке с потолка. И некоторые режиссерские приемы тоже "с потолка". Красивость, ложная оригинальность и многозначительность здесь синонимы. Их выражением стала эксцентрика. И после неудачного отравления Любочка проходит по сцене долгий круг, закручиваясь в пируэте через каждые несколько шагов.
Бытовой ход прерывается вычурными сценическими построениями. Как в замедленной съемке, крадется Любочка вдоль стен, странно перешагивая через стулья. Чтобы не разбудить мать? Но напрямик быстрее и тише. Искусственное нагнетание трагедийности: скорее к столику со снотворным… Характерно, что попытки самоубийства в финале пьесы вообще нет. Он строже и проще: героиням дан шанс услышать друг друга. А свет прожектора, направленный на восставшую из ночи Валентину, лишь размывает суть спектакля и уводит в пустоту.
Впрочем, героини все равно не услышат друг друга: их заглушает музыка.
Кино легко вышло из положения: тот, кто плохо слышит, может прочесть субтитры. Кажется, Театр им. Ленсовета тоже нашел нечто вроде субтитров для тех, кто плохо… понимает сюжет. Субтитры необычные, в виде музыкальных пояснений. Каждое событие проиллюстрировано мелодией или песенкой. Лист, Прокофьев, Гершвин, Хачатурян, Бетховен, Шопен, Кальман, Мусоргский, Боккерини — вот список композиторов, из произведений которых надёрганы известные темы, причем чаще всего в китчевых обработках. Музыкально "искушенному" зрителю уже не надо смотреть спектакль, — достаточно послушать его фонограмму. Пожалуй, нигде музыка не была явлением таким конкретным и простым, как в этом спектакле. "Человек мечтает о счастье!" -говорит листовский ноктюрн "Грезы любви". "Какое может быть счастье, -грозно перебивает прокофьевская "Монтекки и Капулетти", -когда в доме непримиримая вражда". "Да это уже не вражда, а ссора, конфликт!" слышится в лязганье "металла" "Танца с саблями". "Эй, вы, там, наверху! Без вас не унять скандала, помогите!" -взывает к соседям мелодия Паулса. "О, если б навеки так было", -поет шаляпинский бас в минуту затишья.
Музыка в спектакле — это целая "драматургия". Она откликается и на поворот сюжета, и на слово в тексте. Упоминание о южных краях сопровождается неаполитанским романсом. А размышление о первозданной чистоте природы вызывает звучание "Балета невылупившихся птенцов" из "Картинок с выставки" Мусоргского. Есть здесь свои лейтмотивы. Прямолинейность сознания бабушки выражена вступлением к прокофьевскому "Танцу рыцарей". И, как высшее достижение музыкальной мысли спектакля, — хрупкая лирическая тема Любочки. Высокий женский голос выводит "Там, вдали, за рекой". И появление революционной песни в сугубо семейной драме превращает Любочку в борца, складывающего голову за правое дело. Остается только подивиться, почему в спектакле отсутствует песня Юрия Антонова "Под крышей дома твоего", блестяще иллюстрирующая и название пьесы, и тоску бабушки по домику в средней полосе России.
Мелодии пестрят без остановки, не давая зрителю пощады и оставляя в памяти звенящую суету гала-концерта. "Партитура", автор которой скромно замолчен в программке, скорее подошла бы капустнику. А есть ли в пьесе Л. Разумовской материал для веселья?..







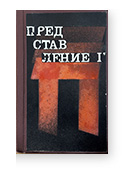


Комментарии (0)