Болеславский Р. Мастерство актера: Шесть первых уроков / Р. Болеславский. Заметки из актерского класса / М. Успенская. Система Станиславского: из России в Америку и обратно /
С. Д. Черкасский; сост., пер. с англ., вступ. статья и примеч. С. Д. Черкасского. — М.: Изд-во АСТ, 2023.
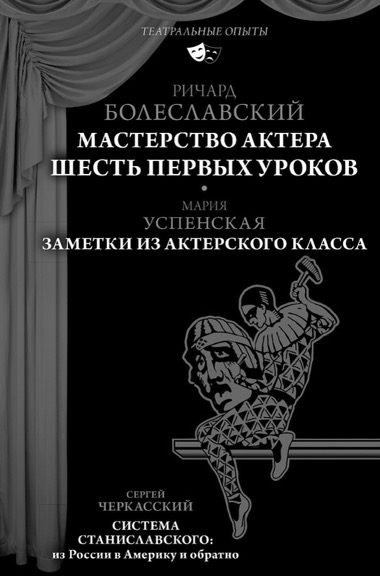
У новой книги Сергея Черкасского будут другие читатели, чем у его предыдущих академичных исследований. «Мастерство актера. Шесть первых уроков» Р. Болеславского и «Заметки из актерского класса» М. Успенской — это прежде всего бестселлер для артистов. Я думаю, для тех, кто уже отдох-нул от института, от ежедневного «Мастерства» с зачинами и этюдами, кто работает на сцене или на съемочной площадке, кто без принуждения хочет работать и «над собой» тоже, чувствует, что хорошо бы профессионально взбодриться, быть в лучшей форме, у кого возникли практические вопросы. И вот тут пригодятся советы профессионалов, в основе принадлежащих нашей школе, но не школьные, более прямые, даже как будто наивные. Речь авторов обращена прямо к артистам; alter ego Болеславского разговаривает с некоей юной коллегой, а реплики Успенской застенографированы во время реальных занятий, которые она проводила. Можно листать, листать книгу и вдруг наткнуться на «секрет», который окажется неожиданно полезным. Этой методикой овладел Ли Страсберг и несколько поколений педагогов до наших дней, по ней в разные годы учились — из известных нам — Марлон Брандо, Джеймс Дин, Мэрилин Монро, Пол Ньюман, Аль Пачино, Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Анджелина Джоли, Скарлет Йоханссон, Ума Турман и многие, многие неизвестные нам артисты американского театра и кино.
Впервые по-русски публикуются в переводе, с комментариями и с аналитической статьей С. Черкасского эссе Ричарда Болеславского и заметки из актерского класса Марии Успенской — прямых учеников Станиславского, начавших новую жизнь за океаном, накопивших свой опыт работы в американском театре золотой эпохи 1920–1930-х годов (драматургия Юджина О’Нила, Торнтона Уайлдера и первое поколение режиссуры) и в не менее успешном Голливуде. Именно они разработали method acting (игру по системе). Важно, что публикуются сами полные тексты этих книг, а не выдержки, не пересказ, не их разбор современным исследователем. Впрочем, разбор предшествовал этой публикации — в книге Черкасского «Мастерство актера: Станиславский — Болеславский — Страсберг: История. Теория. Практика» (СПб.: РГИСИ, 2015). Для «ПТЖ» в № 4 (86) за 2016 год тот фундаментальный труд рецензировал А. В. Бартошевич.
Кроме прочего, эти книги ценны тем, что театральная философия Станиславского, переданная его ученикам дореволюционной эпохи, здесь выражена без советской цензуры, тогда как «Работа актера над собой» вышла у нас в пик сталинского большого террора в 1938 году, когда нормативы социалистического реализма безраздельно торжествовали уже несколько лет. А «Работа актера над ролью» — вообще, как написано на титульном листе, «подготовительные материалы к неосуществленной книге», скомпонованные так, как диктовала эпоха конца 1940-х — начала 1950-х годов составителям, которых Станиславский ни на что не уполномочивал. Опубликованные ими «материалы» не то что не соответствуют, а категорически противоречат принципам решения ролей в спектаклях, поставленных Станиславским в действительности. Очень, очень многое, что мог бы написать Мастер, оставалось в умолчаниях, оговорках, намеках, в спорах с Н. В. Демидовым (запрещенных к обнародованию более 50 лет). Прежде всего — то, что связано с бессознательной природой творчества, с психоанализом, с метафизикой (или мистикой) творческого процесса, с «аффективной памятью». Об этом тайном уровне метода Станиславского мы узнали от того же С. Черкасского из его захватывающего театрально-педагогического расследования «Станиславский и йога» (впервые: СПбГАТИ, 2013). А Р. Болеславский и М. Успенская могли ничего не утаивать, наоборот, по-своему развивали для новой эпохи, новой культуры и встраивали уровни творческого бессознательного в цельную систему своего педагогического метода.
У нас в педагогической теории все, что связано со Станиславским, сакрализовано, не подлежит ни малейшему сомнению и в то же время страшно переусложнено. Станиславский есть ранний, поздний, самый поздний, есть периоды действенного анализа, метода (или не метода) физических действий, этюдного метода (или не метода). А вот для его повзрослевших, уехавших в Америку и ставших самостоятельными учеников этих противоречий нет, и все соединяется: аффективная память реализуется в физическом действии, одно без другого не существует, и развивается всё вместе. (Не буду пугать будущих читателей: этими научными или псевдонаучными дискуссиями авторы книги вообще не занимаются, а для желающих в это вникать отечественных специалистов по методологии тут в изобилии имеется информация к размышлению.)
Силой убеждения обладает, кроме прочего, такая как будто «ненаучная» часть книги, как фотографии. И когда мы видим, например, кадры из фильмов, поставленных Болеславским, с участием Греты Гарбо, Кларка Гейбла, Марлен Дитрих, троих Барриморов, мы помним, что работа с артистом — важнейшая часть искусства режиссуры и, значит, является аргументом в пользу весомости того, что думает режиссер об актерском творчестве. Тем более что рядом фотографии самого Болеславского в многочисленных ролях на основной сцене МХТ и его постановок в Первой Студии, петроградском БДТ, Театре Польски в Варшаве, театрах Нью-Йорка. То же можно сказать про изображения М. Успенской: характерные роли в МХТ, еще более ярко характерные роли в американском кино (одна номинированная на «Оскар», но ее у нас не видели, зато все вспомнят мадам Ольгу Кирову в «Мосте Ватерлоо», даму, тиранившую героиню фильма Майру — Вивьен Ли в своей балетной школе). И Болеславский, и Успенская в актерских классах к 1920–1930-м годам (когда преимущественно сформировались тексты, опубликованные в книге) основывались и на том, чему их учили в 1910-е годы, и на собственной практике, причем не только в театре, но и в кино.
Болеславский и Успенская долго работали в одной созданной ими школе — Американском лабораторном театре — и распределяли между собой этапы обучения. Успенская занималась работой актеров «над собой», а Болеславский, скорее, «над ролью», во всяком случае, из опубликованных текстов следует, что она усердно развивала «сценическое творческое самочувствие» и все, что с этим связано, а он готовил артиста войти в систему спектакля или фильма как сложной художественной реальности.
Мысли Успенской, которые она развивает в своем классе, очень близки существу педагогического мышления Станиславского. Для нее важно, чтобы у артиста были вовлечены в творчество five senses (пять органов чувств). По сравнению с другими искусствами, в которых у творцов есть инструменты для работы, у актеров есть «только мы сами». Значит, нужно совершенствовать себя как художника и как инструмент. Речь идет и о воображении, и о восприятии, внимании, ощущениях, памяти, реакциях, общении… Успенская понимает сценическую психологию не прямолинейно, глубоко. Например, она советует: «Никогда не вспоминайте настроение впрямую. Воскрешайте в памяти все окружающие обстоятельства, и настроение придет». «Психологически наше восприятие идет по шагам… Внимание зрительного зала держит процесс…». Выразительные средства должны работать «до текста». «Не предвосхищайте конца спектакля». «Выберите характерность, которая перекроет вашу». «Попробуйте, прежде чем с кем-то поздороваться, понять, как этот человек себя чувствует». «Думайте всем своим существом, а не только умом»… Эти вырванные из разных мест текста разрозненные тезисы все же могут свидетельствовать о том, что у Успенской есть последовательное, цельное, глубокое, не прямолинейное, проверенное на себе, системное понимание внутренних механизмов сценического существования, профессиональной техники, позволяющей «увидеть океан на кирпичной стене сцены, почувствовать свежий аромат цветущей яблони, сделанной из муслина и рыбного клея». Успенская (в отличие от Болеславского) упоминает своего учителя Станиславского, хотя тут же оговаривается, что «все хорошие актеры в конце концов приходят к схожим выводам».
Болеславский принимал учеников на следующем этапе и готовил их к творчеству в системе спектакля. Книга Болеславского раскрывает его как самостоятельного режиссера и педагога, сформировавшего собственную систему убеждений и принципов, значительно изменившихся по сравнению с тем, чему учили студийцев Сулержицкий и Станиславский. Он сохраняет основы той театральной философии — разработку внутренней линии роли, конкретность человеческого характера, выстраивание внутренней структуры роли. Но в остальном его представления о театральной эстетике, понимание роли как части спектакля соответствуют новому времени, другой культуре. Мы помним свидетельство Вахтангова: «Болеславский был прав, когда сказал в прошлом году ошеломившие меня слова: „Станиславский мне ничего больше дать не может, поеду к Крэгу“»1. Пределы школы Станиславского Вахтангов объясняет в том своем манифесте, предшествовавшем его вершинным постановкам, тем, что «Станиславский, плохо разбираясь в психологии, строит ее интуитивно. Идеально знает актера — с головы до ног, от кишок до кожи, от мысли до духа»2. Но «Станиславский совсем не владеет театральной формой». «У Станиславского нет лица. Все постановки Станиславского банальны»3. «Станиславский до сих пор почувствовал только одну пьесу — „Чайку“ — и в ее плане разрешал и все другие пьесы Чехова и Тургенева, (боже мой!) Гоголя и (еще раз, боже мой!) Островского и Грибоедова. Больше ничего Станиславский не знает. Больше ничему у Станиславского научиться нельзя»4 (Всехсвятские записи. 26 марта 1921 года). Интересно, что, при всех различиях с товарищем по Первой студии, в своем дальнейшем творчестве Болеславский решает именно те проблемы театрального метода, которые тот формулировал, — о создании художественной формы, об авторском стиле. Это следует из его книги, из реплик опытного собеседника начинающей актрисы. Это следует даже из фотографий его спектаклей и фильмов, на которых заметно внимание к визуальной форме, возможно, под влиянием того самого Крэга. Мы узнаём, что отношения с Крэгом действительно развивались, Болеславскому довелось быть его ассистентом, как, между прочим, и ассистентом Макса Рейнхардта.
В отличие от уроков Успенской, книга Болеславского выдержана в замысловатом стиле (притом переиздавалась на английском языке около сорока раз). Осмысление феномена актера тут философское, часто иносказательное, с разнообразными ассоциациями. Текст выстроен в форме диалога автора (эти реплики он помечает местоимением Я) и начинающей артистки. Похоже, кстати, на диалоги «Искусство театра» Крэга! Каждый из шести уроков задает как бы новый уровень актерского искусства (тут уместно говорить именно об искусстве, не о творчестве, технике или мастерстве). Собеседница возвращается на следующий «урок» через несколько месяцев, овладев предыдущим уровнем. А «гуру» (назову его так) ведет ее выше.
После первых уровней, связанных с вниманием, с эмоциональной памятью, Болеславский переходит к вопросам драматического действия, создания характера. И тут заметно расхождение с методом, предполагающим цельность роли в пропорциях реального человека. На примере образа Офелии он объясняет, что, например, нельзя воспринимать сказанное ею как речь одной определенной девушки, персонажа самого по себе. Есть единый шекспировский текст с его смысловым развитием и стилистическим единством, и, играя любую роль в пьесе, нужно становиться частью этого единого текста. Тем более это важно, когда участвуешь в спектакле по современной драме, например по пьесе Б. Шоу. «Воплощение персонажа Шоу будет неполно без проникновения в характер его собственного мышления, связанного с привычкой к бесконечным нападкам и обороне, постоянному провоцированию споров, вне зависимости от того, прав он или нет. В общем, без ирландского духа». Болеславский вовлекает артиста в систему спектакля в целом, а не в собственную жизнь от имени роли. И здесь, пожалуй, он, так сказать, «уехал к Крэгу» и, кроме того, чувствует британские корни американского театра и кино.
Для последнего из диалогов они поднимаются на 102-этажный небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг. По мысли Болеславского, уровень воплощения роли «как в жизни» располагается на первом этаже, та же роль в художественной форме — гораздо выше. Этот диалог об отношениях «Мистера Что» (т. е. содержания) и «Миссис Как» (т. е. формы). И здесь на 102-м этаже автор развивает мысли о ритме, о цвете, о музыке, упоминает теорию Жак-Далькроза, книгу о конструктивизме… «Конфликт как побудитель действия, — утверждает гуру, — это только начало, так сказать, азбука. Мистер Что — весьма скучная личность, если он без своей спутницы Миссис Как».
Учитывая эстетику спектаклей самого Станиславского послереволюционного десятилетия («Каин», «Ревизор» с М. Чеховым, «Горячее сердце», «Безумный день, или Женитьба Фигаро»), вышедшую далеко за границы жизнеподобного реализма, я бы рискнул предположить, что в условиях свободы и сам автор Системы мог бы написать что-то подобное.
В теоретическом послесловии С. Черкасского «Система Станиславского: из России в Америку и обратно» изучена история публикуемых текстов и их место в развитии театральной педагогики. Статья убеждает в том, что Болеславский и Успенская увезли с собой из России и сохранили самую суть подхода Станиславского к актерскому творчеству. Черкасский видит в сегодняшней отечественной школе поворот от появившейся в середине ХХ века интерпретации Системы как «театра действия» к поиску истоков актерского творчества на уровне восприятия, памяти ощущений и «эмоциональной» памяти (подцензурный эвфемизм «аффективной памяти»), подход к Станиславскому «через Н. В. Демидова» с его абсолютизацией спонтанности. Феномен аффективной памяти оговаривается как принципиальный, пора пересмотреть его принадлежность к якобы враждебной материализму буржуазной психологической науке. Можно согласиться с этой позицией С. Черкасского, важной для его понимания идей Станиславского. Психолог Т. Рибо, на которого ориентировался Станиславский и в концепции аффективной памяти, и в технике «лучевпускания» и «лучеиспускания», которой он пользовался, считал, что причиной активного внимания является аффективное состояние. По Рибо, такое внимание — факт исключительный, аномальный, который не может долго продолжаться. Он остается в памяти, и артист может им воспользоваться, чтобы развернуть психологический процесс. Нас учили, что в советское время Станиславский отказался от этого «идеализма», осознал теорию Павлова о безусловных рефлексах, возбуждении и торможении участков коры головного мозга (т. е. локализации психологических процессов в области сознания) и следовал представлениям Сеченова о том, что в основе сложных психических процессов лежат процессы физиологические (тут обоснование важности физических действий). Черкасский убеждает нас в том, насколько важной для Станиславского в актерском творчестве всегда оставалась сфера бессознательного, то, что он мог передать ученикам в 1910-е годы и что они сохранили. Кстати, в Мастерской Черкасского в РГИСИ эти принципы школы проверяются на практике. Предыдущий курс учили многому из того, что было в методике Первой студии МХТ, и теперь эти ребята интересно работают в петербургском Городском театре (стабильности которого угрожают исключительно организационно-финансовые, а вовсе не творческие обстоятельства). В обучение нынешнего набора включены, кроме прочего, занятия йогой, педагогические приемы американских учеников Станиславского, в частности тех, чьи книги теперь стали доступны на русском языке.
Книга с текстами Р. Болеславского и М. Успенской возвращает нам заряд энергии мысли Станиславского, пересекшей океан сто лет назад. Теперь он вернулся событием для отечественного театра. Теоретиков книга заставит переосмыслить феномен Станиславского. У педагогов «этюдного» направления и «демидовцев» укрепит методическую базу. Для сторонников спектакля как событийной системы будет вызовом. А артистам просто поможет в повседневной работе.
Январь 2024 г.
1 Евгений Вахтангов: Документы и свидетельства: В 2 т. / Ред.-сост. В. В. Иванов. М.: Индрик, 2011. Т. 2. С. 468.
2 Евгений Вахтангов: Документы и свидетельства: В 2 т. Т. 2. С. 467.
3 Там же. С. 466.
4 Там же. С. 468.








Комментарии (0)