Третьякова Е. Музыкальный театр моего поколения. 1980–2020.
М.: Крафт+, 2022.
Барыкина Л. Театр и музыка всегда в диалоге.
М.: Крафт+, 2023.
Как ни относиться к театральной критике, но именно критик первым сталкивается со всем новым, непонятным, возможно — шокирующим, с поколебленными устоями и дерзко прерванными традициями и, условно говоря, за одну ночь должен разобраться в происходящем, попытаться понять и оценить то, что он сегодня увидел, вписать в контекст. Особенно это актуально для театра эпохи перемен, перелома, прорастания новых тем, формирования новой эстетики, трансформации систем. Именно такому театру посвящены две книги критиков — Елены Третьяковой и Ларисы Барыкиной. Обе представляют собой по формальному признаку сборники по большей части рецензий на спектакли, а также театральных обзоров, интервью, очерков, проблемных статей, и все же это целостные высказывания авторов. Каждая книжка, несомненно, заслуживает отдельного разговора. Однако по прочтении стало ясно, что они не то чтобы дополняют друг друга, но именно в совокупности дают целостное и прямо-таки панорамное полотно непростой и увлекательной жизни музыкального театра (в основном российского, но не только) последних сорока лет, а также демонстрируют великие возможности театральной критики, что и сподвигло меня объединить отзывы на два издания под одним заголовком.
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 1980–2020»
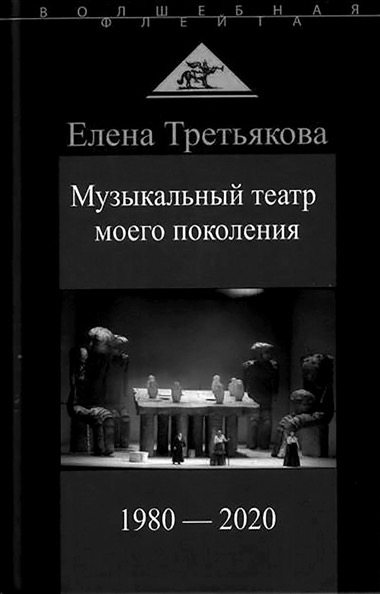
Елена Третьякова явно поскромничала с названием, ибо в ее подробном последовательном описании и осмыслении предстает музыкальный театр не одного, а как минимум трех поколений — за сорок-то лет (первая рецензия датирована 1981 годом, последняя — 2021-м)! Книжку можно было бы назвать «Музыкальный театр моей жизни» — и это было бы справедливо. Кстати, и моей тоже, да и всех наших сверстников. И я считаю — нам повезло, мы наблюдали процесс глобальных перемен, менялись вместе с театром, это было трудно, иногда даже страшновато, но очень увлекательно.
И все это отражено в летописи Третьяковой. Именно такое жанровое определение книги приходит в голову. Автор последовательно, шаг за шагом, как сейчас принято говорить — эпично (в самом прямом и настоящем смысле этого слова), вдумчиво, рассудительно, взвешенно и предельно корректно описывает новейшую историю музыкального театра, по преимуществу — оперного, но немало внимания уделяет оперетте и мюзиклу. И хотя в одной из ранних статей («Серия парадоксов проблемы „Театр и критика“») она и сетует, что ныне профессии критика не существует и он уже не может «шляться», как рекомендовал великий Павел Марков, ибо у него есть еще свое место работы, а в театре он никто, — это тоже скромность, так как Третьякова со всей очевидностью шляется: она смотрит премьеры во всех музыкальных театрах родного Ленинграда/Санкт-Петербурга, во всех составах, а также рядовые спектакли, гастроли, фестивальные программы, разъезжает по городам и странам и пишет обо всем увиденном, разворачивая перед читателями картину, к которой, кажется, уже и нечего прибавить. Вызывают восхищение огромные обзоры оперных сезонов как отдельных театров(в основном — Мариинского), так и всех петербургских скопом или гастролей — например, Хабаровского театра музыкальной комедии. Этот монументальный, когда-то весьма востребованный, а ныне подзабытый жанр (лонгрид, многабукав — тяжело, не для нашего времени) для истории театра просто кладезь, тем более что глубина аналитики автора дает уверенность в максимальной его объективности. Объем и подробность публикаций впечатляют сами по себе, между тем хронологически последовательное соединение, казалось бы, разных статей воспринимается как единое повествование и читается как семейная сага. Хотя все же замечу, что если бы книжка была короче страниц на 100–150, она имела бы бóльшую привлекательность для читателя, и сократить ее в принципе можно: есть и повторы (в том числе мыслей, рассуждений о проблемах), есть отклики на явно слабые спектакли, которые давно канули в Лету, и можно было бы обойтись без них, в книге и без того много интересного.
Очень любопытно следить за тем, как меняется ситуация, как довольно ровная и «застойная» позднесоветская ситуация расшатывается экспериментами, мировыми премьерами, редкими названиями, уникальными режиссерскими именами. Видно, что такие явления привлекают молодого критика прежде всего — она пишет о «Марии Стюарт» Слонимского и «Пугачеве» Кобекина; «Пирате» Беллини, «Дон Кихоте» Массне и «Осуждении Фауста» Берлиоза; о первой и единственной оперной постановке Андрея Тарковского — «Борисе Годунове» в тогда еще Кировском театре. В 90-е годы автор фиксирует серьезные изменения петербургского оперного ландшафта, постоянно и последовательно размышляет над такими явлениями, как перенос спектаклей из-за рубежа, новые постановки в старых одеждах, а именно — в подновленных исторических декорациях. Это не только дает читателю возможность поностальгировать, но и ярко характеризует переломное постсоветское время: падение железного занавеса и вытекающее из этого расширение творческой коммуникации; столкновение разнонаправленных тенденций — с одной стороны, попытки сохранения не просто традиционности, а даже «музейности» оперного театра (например, «Хованщина» Э. Пасынкова с декорациями Ф. Федоровского 1952 года в Мариинском и многое другое), с другой — формирование концептуальной, новаторской оперной режиссуры, первые пробы кино- и драматических режиссеров на оперной сцене (А. Тарковский, Т. Чхеидзе, В. Мирзоев). Автор размышляет, сомневается, осторожно и вдумчиво ищет подходы к оценке стремительно формирующихся новых тенденций и приглашает задуматься о них читателя, вступает с ним в диалог.
Уже в ранний период, в 80-е, критик ребром ставит вопрос «Нужен ли опере режиссер?» (так называется одна из статей). Эта животрепещущая для своего времени тема становится важнейшей для публикаций 90-х — начала 2000-х годов. Здесь российская критика в целом сталкивается с новым явлением — режиссерским оперным театром, который нужно было как-то рассмотреть, понять, найти идейные основания и инструментарий для его анализа и оценки. И Третьякова, несомненно, вносит свою лепту в это сложное дело, уделяет проблеме внимание как в отдельных работах (например, в названной статье), так и практически в каждой рецензии. Мы наблюдаем развитие вопроса от «нужен ли режиссер?» к тому, какой именно нужен режиссер, с какими творческими принципами и интенциями, чем ограничиваются его права (ограничиваются ли вообще?), затем следим за формированием представления о режиссере как авторе спектакля, что, собственно, и закрывает тему.
Читатель становится свидетелем рождения нового поколения отечественных оперных режиссеров: Ю. Александрова, А. Петрова, Г. Исаакяна, Д. Чернякова, В. Бархатова — и может проследить их становление от ярких запоминающихся дебютов до формирования зрелого стиля, своей эстетики. В книге их творческие судьбы развиваются параллельно, иногда в прямом сопоставлении или сравнении, и таким образом подспудно рисуется коллективный портрет главного героя и enfant terrible современной оперной сцены — режиссера. В это же время возникают и новые музыкальные театры: «Санктъ-Петербургъ Опера», «Новая опера», «Зазеркалье», «Карамболь», и автор со всей тщательностью анализирует их творческие особенности, определяет им место на театральной карте. Заметно расширяется и обогащается не только театральный контекст, но и критический.
Елена Третьякова — редкий критик музыкального театра, уделяющий большое внимание жанру оперетты, подчеркну — классической оперетты, существование которой сегодня порождает огромное количество вопросов и практически не дает ответов. И критик ситуацию фиксирует — ее статьи на эту тему полемичны, причем полемизирует автор скорее с самой собой, и в этом внутреннем споре она пытается прийти к истине и определить, какое место занимает (или должно наконец занять) в актуальном театральном процессе это трудное «легкое» искусство. И, конечно же, ее очень заинтересованное внимание привлекает новый (для нашей культуры, во всяком случае) и тоже вроде бы «легкий» жанр — мюзикл, который практически заполонил российские сцены с начала 2000-х. И вновь здесь критику с разбегу нужно анализировать, оценивать, разбираться в том, как этот импортный товар приживается на отечественном рынке. И разбирается — как с купленными признанными импортными образцами («Метро», «Чикаго»), так и со своими, вновь созданными («Владимирская площадь» Журбина, «Гадюка» Колкера, «Алые паруса» М. Дунаевского и многие другие).
Нужно сказать, что внимательный и заинтересованный читатель увидит в тексте еще и процесс формирования отечественной театральной критики нового периода. В ранних статьях очевидны черты советской критической мысли в ее лучшем варианте: тон высказываний сдержан, изложение неспешное, полемическая острота если и присутствует, то в вегетарианском виде — оперные театры не только столиц, но даже отдаленных регионов в это время были некритикабельны, и, чтобы высказать хоть какое-то замечание без риска получить отказ в публикации, нужно было изворачиваться. Этика критика подразумевала доказательность — это качество одно из сильнейших у Третьяковой, и с годами оно никуда не делось. У нее очень внимательный глаз, она замечает мельчайшие подробности, интерпретирует их, умеет описать спектакль в деталях, так, что буквально видишь его воочию. Важная черта критических материалов этого времени — просветительство, которое тоже входило (а в лучших случаях и продолжает входить) в этический кодекс критика — он должен был не себя и свой блестящий ум выпячивать, а информировать. В 90-е и позже статьи становятся более свободными, смелыми и яркими, иной раз — спорными, автор не стесняется выражать откровенную радость, а критиковать хлестко и безжалостно — запоминается настоящий фельетон на постановку оперы «Петр I» в Малеготе.
В более поздних работах просветительство перерастает в серьезную исследовательскую работу. Автор касается таких сложнейших и актуальных вопросов, как историческая трансформация взглядов на музыкальный спектакль и методологических подходов к его анализу, специфика его художественного синтеза и места в нем режиссуры, особенности актерской игры вокалиста, и высказывает нетривиальные мысли по этим поводам. Все это вещи тонкие, малоизученные и пока еще труднообъяснимые, а научной литературы на эту тему совсем немного. Так и хочется сказать: Елена Всеволодовна, вы бы взялись и написали монографию!
«ТЕАТР И МУЗЫКА ВСЕГДА В ДИАЛОГЕ»
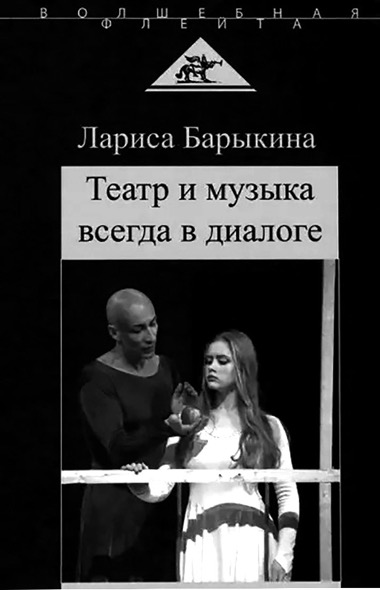
Лариса Барыкина — музыковед, и театроведческими (в частности, очень сложными балетоведческими) компетенциями она обзавелась в лабораториях, которые организовывал в 1980-е годы СТД РФ, в процессе многолетней работы в театре (в том числе в качестве куратора фестиваля) и, несомненно, в своей интенсивной практике музыкального и театрального критика. Ее взгляд на музыкальный театр широк, почти беспределен, количество увиденного, пережитого (а она очевидно ярко переживает каждый свой зрительский опыт), осмысленного и отраженного в публицистическом тексте более чем солидно. Несомненно Барыкина — критик «широкого профиля», причем о какой бы разновидности музыкального театра она ни писала, ее профессионализм не вызывает сомнений (хотя мнение, безусловно, может вызвать неприятие). Немалую роль сыграла и ее мобильность, автор из так называемых «летающих критиков», и куда только ее ни заносили эти критические крылья — от Сибири до Парижа и Нью-Йорка. Она описывает спектакли, представленные «Золотой маской», с которой сотрудничала более 20 лет в качестве эксперта и члена жюри, следит за историей знаменитого пермского Дягилевского фестиваля, нескольких крупных(в том числе и зарубежных) фестивалей современного танца, международных музыкальных форумов, не пропускает интересных премьер в Москве и Санкт-Петербурге, крупных культурных центрах России и, конечно же, с особым чувством пишет о самых близких, можно сказать — родных своих театральных коллективах Екатеринбурга и Перми. Барыкина наблюдает, оценивает, размышляет, делится впечатлениями, суждениями о явлениях музыки и музыкального театра более 30 лет — от рубежа 1980–1990-х годов до начала 2020-х.
В связи с широтой жанров (как театральных, так и критических) статьи в книге сгруппированы в рубрики, отдельные разделы, которые посвящены: балету и современному танцу; опере, мюзиклу и музыкальной драме; фестивальным маршрутам; персоналиям; проблемным и обзорным статьям. Правда, музыкально-театральные термины в обозначении глав, например «Интродукция. Мысли по поводу», «Процесс I» (а позже — «Процесс II»), «Интермеццо»; «Легенды, персонажи и действующие лица», внутри которых есть еще и три отдельных «сюжета», придуманы, кажется, исключительно для красоты и оригинальности, возможно — в рекламных целях, но навигацию они только усложняют, оглавление утяжеляют, даже сбивают с толку (например, почему важнейшая часть книги — обзоры фестивалей — вдруг Интермеццо? Может, этот раздел и читать не обязательно? Заранее говорю — читайте непременно, очень интересно).
Тексты написаны не просто хорошо и ясно, но по-настоящему захватывающе. Критику присуща эмоциональность, даже страстность в рассуждениях об искусстве, она к нему (искусству) неравнодушна, можно сказать — живет им, о чем свидетельствуют и приподнятый красочный стиль изложения, и полемический пыл отдельных работ, и несомненная искренность высказываний — как восторженных, так и возмущенных. О своей любви к музыке и театру, и соответственно — собственной профессии, автор заявляет в интервью, опубликованном в самом начале книги, и ее слова читателя не обманывают. Мир театра в сборнике предстает ярким, разнообразным, манящим, а многие его «действующие лица» — настоящими творцами, небожителями. Читая эти тексты, вновь влюбляешься в театр, как в известной оперетте муж заново влюбляется в хорошо знакомую жену.
Поскольку здесь, как и в книге Третьяковой, мы встречаемся с театром эпохи перемен, то самым существенным в сборнике представляется рефлексия по поводу феноменов актуального театрального процесса. Автор, например, увлеченно разбирается в нарождающемся и затем повсеместно утверждающемся режиссерском оперном театре. В круг ее внимания, естественно, попадает личность Александра Тителя, одного из «отцов-основателей» российской режиссерской оперы, который много лет работал в родном городе автора Свердловске/Екатеринбурге, прежде чем стал руководить крупным московским театром. Очень заинтересованно Барыкина прослеживает путь Георгия Исаакяна: географически — из Перми в Москву, а творчески — от ранних работ к зрелости, со всеми довольно драматическими перипетиями судьбы художника. Ее привлекает поисковый запал режиссера, который постоянно предлагает зрителям мировые, российские премьеры, раритеты, — вы найдете в книге рецензии и аналитические отклики внутри фестивальных обзоров на «Русалку» Дворжака, «Золушку» и «Клеопатру» Массне, «Орфея» Монтеверди, «Один день Ивана Денисовича» А. Чайковского, «Лолиту» Щедрина в Перми и затем уже на работы в московском театре им. Н. Сац.
Важной персоной, не заметить которую невозможно, становится для автора Дмитрий Черняков, причем в ее поле зрения попадают и российские, и зарубежные постановки разных лет — критик формулирует свое отношение, свое видение театральной эстетики незаурядного режиссера, имея для этого большой зрительский опыт. Вообще круг оперных режиссеров, с творениями которых можно познакомиться благодаря книге, чрезвычайно широк. Кроме упомянутых — Дмитрий Бертман, Александр Петров, Роберт Уилсон, Маттиас Ремус, Пол Каррен, Валентина Карраско, Питер Селларс, Кристофер Олден и многие другие, в том числе и новоявленные «оперники» Марат Гацалов и Константин Богомолов с их весьма спорными опусами. С воодушевлением автор принимает и с исследовательски-просветительскими отступлениями описывает мировые или российские оперные премьеры, раритеты оперного репертуара — «Дети Розенталя» Десятникова, «Сатьяграха» Гласса, «Три сестры» Этвеша, «Королева индейцев» Перселла, «Граф Ори» Россини. Из статей Барыкиной очевидно — опера не просто жива, но живет очень насыщенной, хоть и непростой жизнью.
Значимы замечания критика с консерваторским образованием о музыкальной стороне спектаклей, особенно — о работе дирижеров, мимо которой она не проходит ни в одной из рецензий и всегда находит очень точные, емкие и не дежурные слова для определения особенностей, сильных и слабых сторон конкретной дирижерской интерпретации, а также индивидуальных манер практически каждого из маэстро. Особо полно и многогранно в ее текстах представлены Евгений Бражник, Валерий Платонов, хоровой дирижер Виталий Полонский и, конечно же, Теодор Курентзис — последнему автор посвящает отдельный «сюжет», складывающийся из пространно откомментированных интервью, рецензий, проблемных статей.
С интересом встречает критик новое явление российского музыкального театра — мюзикл, или то, что этим именем зовется на наших сценах. Модный жанр, который она наблюдает в основном в родном городе, в одном из лучших в стране театров музыкальной комедии, в постановке крупного мастера Кирилла Стрежнева (и не только — есть еще спектакли Д. Белова, А. Франдетти, Н. Чусовой и др.), видится ей «новой кровью», вливаемой в организм несколько подвядшего развлекательного музыкального театра. Оценки критика далеко не однозначны и не всегда высоки (вообще, честно сказать, есть что-то героическое в таком пристальном и последовательном наблюдении за развлекательным музыкальным театром, который чаще дарит нам шипы, чем розы, а оба наши автора — Третьякова и Барыкина — совершают почти подвиг), но сами описания спектаклей, суждения по их поводу весьма ценны и значимы.
Полагаю, что большое удовольствие получат любители и знатоки музыкально-театральной культуры Перми и особенно — Дягилевских фестивалей, которые в книжке подробно и увлекательно описаны почти все, начиная с первых, еще «докурентзисовских». Здесь и Барыкина выступает летописцем, подробным хроникером, оставляя потомкам бесценные наблюдения заинтересованного и компетентного человека.
Ну и, конечно, «особь статья» — тексты о балете и современном танце. О классике и академической традиции в нынешнем изводе автор пишет много, интересно и профессионально, но это у нас умеют делать, в общем-то, многие, поэтому здесь отмечу только материалы о Славе Самодурове, собранные в развернутый творческий портрет («сюжет»), в котором балетмейстер предстает во всей оригинальности, сложности и многогранности яркой личности художника.
Самое же ценное — это целостная картина зарождения, становления, эмансипации и полного взросления того вида музыкального театра, который принято называть contemporary dance, в частности — российской его ветви. Статьи об этом явлении есть и в разделе «Процесс I», и в больших фестивальных обзорах, они как бы разбросаны по книжке и все же выстраиваются в отдельную важную ее линию, составляют захватывающую историю. Мне представляется, что ни один из наших отечественных экспертов столь полно и с такой мерой погружения в предмет не высказался по поводу contemporary, как Лариса Барыкина. Волею судьбы критик стал свидетелем зарождения нового искусства в стране еще в позднесоветский период и бесстрашно взялся изучать и анализировать этого неизвестного науке зверя, вникать в подробности и особенности, фиксировать все перипетии и драматические коллизии его трудного роста, набираться информации и делиться ею, знакомиться и знакомить читателей с мировым контекстом. Конечно, главным героем автора в этом жанре становится и навсегда остается Евгений Панфилов — причем героем в буквальном смысле, личными усилиями, в одиночку взламывающим наросшие на танцевальное искусство стереотипы, прокладывающим пути в неизведанные дали и открывшим в результате новые художественные пространства. Панфилову посвящен отдельный «сюжет», и составляют его пять статей: от знакомства до некролога.
Барыкина представляет всех ярких российских хореографов contemporary — Татьяну Баганову, Ольгу Пону, Сергея Смирнова, Сашу Пепеляева и многих других, прослеживает их творческие пути, замечает появление новых персон, коллективов, много пишет о состоянии современного танца за рубежом, размышляет, анализирует, исследует с вполне научным подходом. И опять же хочется задать вопрос: Лариса Владимировна, а почему бы вам не написать монографию на эту тему?
***
Хочется представить себе собирательный образ читателя этих книг. Один образ не получается, скорее, их будет несколько. Например, практик театра, который найдет что-то про себя, про своих добрых или заклятых друзей-коллег, может быть, прочитает про свой жанр и наверняка этим ограничится. Если это любитель театра, постоянный посетитель, то тоже, скорее всего, прочтет не все, а лишь о том, что сам видел, что хорошо помнит, — книжки толстые, чего уж греха таить, не всякий решится. Можно представить себе студента/аспиранта/диссертанта — те точно выберут только то, что им нужно для работы. И очень хорошо, такой подход вполне возможен и повсеместно распространен. Но… Как человек, прочитавший обе книжки полностью и последовательно от начала до конца, с полной ответственностью могу посоветовать читать их именно так. Конечно, это даже для таких, как я, т. е. тоже критиков, или историков, исследователей театра (кто почти все описанное видел, обсуждал, сам об этом писал), — не фунт изюму, все-таки совокупный объем обеих книг — более 1000 страниц, тексты плотные, нагруженные фактами, именами, названиями, в них есть повторы, длинноты. Но чтение постепенно захватывает, ты погружаешься в особый мир, созданный интеллектом, чувством и фантазией очень информированных и ответственных критиков. Плыть в этой плотной субстанции непросто, но увлекательно. Тем более что главный герой книг — театр твоей жизни.
Март 2024 г.








Комментарии (0)