Ю. Трифонов, Ю. Казаков, Ю. Домбровский. «Прозрачное солнце осени». Сценическая история по рассказам «Трех Юриев». Театр «Сфера» (Москва).
Режиссер Александр Коршунов, художник Ольга Коршунова
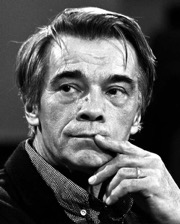
Середина прошлого столетия — годы, когда после шумного литературного дебюта надолго замолчал лауреат Сталинской премии Юрий Трифонов, вернулся из очередной многолетней отсидки и добился реабилитации з/к Юрий Домбровский, начал публиковаться арбатский мальчик Юрий Казаков.
Первый считался трудолюбивым, мастеровитым бытописателем, раздражался на недопонимание и мучился от недооценки своего творчества, но жизнь прожил, в общем, благополучную. Второй, изувеченный лагерем, слыл буйным антисоветчиком, писал один роман лучше другого, бурно жил, крепко пил и скончался от бандитских побоев. Третий прославился как автор чудесных, напрочь лишенных партийного гражданского активизма рассказов, был влюблен в одухотворенную красоту и силу Русского Севера, трудно расставался с иллюзиями молодости, страдал от духоты застоявшегося времени, периодически уходил в тяжелые запои, надолго переставал печататься и умер в тоскливом одиночестве.
Три Юрия. Три писателя. Три жизни. Три судьбы.
Они писали превосходную прозу экзистенциального толка и свойства, нередко впадали в отчаяние, бывали эгоцентричны и нелегки в общении, ведали «страсть к разрывам», расставались с любимыми, отдалялись от близких и однажды простились навсегда со всеми разом, каждый в свой срок.
В предчувствии скорой кончины Юрий Казаков написал другу: «Надо, надо нам с тобой встретиться, поговорить надо. Жизнь такая настает, что надо бы нам всем хоть напоследок нравственно обняться». В четырежды повторенном «надо» слышится тоска по нравственному объятию, надежда на дружественное единение, вера в то, что оно непременно состоится. И не в проблематичном инобытии, где все небо блистает алмазами, а здесь, на грешной земле, при неярком прозрачном свете осеннего солнца.
«Прозрачное солнце осени» — так Александр Коршунов назвал свой спектакль, поставленный по рассказам «трех Юриев». Его не слишком волновали тонкости стилевых различий в прозе любимых авторов. В своем замысле он исходил из того общего, что соединило их жизни с исторической судьбой современников. Это не первая «сценическая история в рассказах» в репертуаре «Сферы». Интонационно и содержательно премьерная постановка продолжает репертуарную линию, представленную в афише именами Варлама Шаламова, Александра Вампилова, Василия Шукшина, Николая Рубцова.
Найденный сквозной мотив дороги позволил объединить семь разных по стилистике рассказов в один сценический сюжет. Неизбежные в пути отъезды и приезды, внезапные остановки и неожиданные возвращения, «короткие встречи» и «долгие прощания» — этими чередованиями движется спектакль. Сцены встреч действительно коротки, упруги и стремительны по темпу, а сцены прощания идут медлительно и зависают в продолжительных паузах.
История начинается с расставания безымянных Девушки и Парня на глухом сельском полустанке («На полустанке» Казакова); продолжается нечаянными радостями и напрасными сожалениями («Неоконченный холст» Трифонова), недобрыми предчувствиями и внезапными непрошеными визитами («Голубиная гибель» Трифонова), неожиданными свиданиями и минутами невероятной душевной близости («Прошлогодний снег» Домбровского), печальными предчувствиями разлуки навек («Свечечка» Казакова), а заканчивается — случайной встречей однокашников в буфете маленького провинциального аэропорта («Прозрачное солнце осени» Трифонова).

Л. Корюшкина (Клавдия Никифоровна), Г. Калашникова (Софья Леопольдовна). «Голубиная гибель». Фото Ю. Ласкорунской
В мерно текущее сценическое повествование о людях советского прошлого рассказ «Арест», связанный с декабристской темой, вторгается дерзким смысловым акцентом. Герои рассказа Домбровского — не малоприметные служащие средней руки. Ни больше ни меньше — государственные деятели, прикосновенные к событиям большой истории, к судьбам огромной Российской империи. «Смирись, Кавказ, идет Ермолов!» Помните? А пренебрежительные слова Чацкого о судьях с их запоздалыми суждениями «времен Очакова и покоренья Крыма»? И захочешь забыть — не сможешь. Расположенный строго по центру композиции, «Арест» венчает и держит ее, подобно замковому камню в архитектуре арочного свода.
Коммунальная среда обитания обрисована художником Ольгой Коршуновой намеренно буднично и прозаично: острота красок пригашена, цветовой колорит стусклен, обстановка скромна до скудости. Но чувства угнетенности не возникает. Все дело в смене видеопроекций по стенам. Живописные полотна, рисунки и гравюры, фотопортреты и кадры кинохроники раздвигают перспективу, вносят в спектакль воздух и движение.
Сельский вид с хмурым небом, мокрым проселком
и бредущей по воду старухой с ведром («На полустанке»). Мольберт перед недописанным натюрмортом, кисти в высокой банке и букет цветов на столе, небрежно брошенная на стул ткань, испачканная красками тряпка в мастерской художника («Неоконченный холст»). Московский дворик с потертыми стенами, облупленными дверями, потрескавшимися оконными рамами и косо растущим деревцем в углу («Голубиная гибель»). Городские панорамы старой и новой Москвы, одухотворенные талантом Пименова (еще одного Юрия!), гримировальный столик с изящными дамскими безделушками, портрет молодой актрисы над ним («Прошлогодний снег»). Сумрачные подмосковные дачные окрестности в ночи («Свечечка»). Снятые сверху кадры подвижного, волнующегося «зеленого моря тайги» («Прозрачное солнце осени»). Все милое, трогательное, симпатичное. И только «Арест» играется в обрамлении суровых кавказских гор и строгих петербургских проспектов, набережных и площадей. В каждом сюжете наступает момент, когда краски слайдов меркнут, исчезают совсем, изображение обесцвечивается и становится черно-белым. Но к финалу рассказа цвет проступает заново и к нам возвращается неброская, но такая родная светотень природы, зимней, весенней, летней, осенней.
Столь же продумана звуковая насыщенность действия: стук колес, гудок и пыхтенье паровоза, шелест листвы, шум дождя и раскаты грома в отдалении, звуки улиц и голубиное воркование, громкое новогоднее оживление, рев идущих на посадку самолетов и объявления о начале регистрации. Деревенский вальсок соседствует с городским романсом, бесхитростный шлягер середины пятидесятых — с фрагментами популярной классической музыки и советскими маршами, а на прощание — знакомая до последней ноты «Молитва» в исполнении Булата Окуджавы.
Вместе с тем ностальгической дымки, печали при мысли о временах навсегда ушедшей молодости в спектакле не чувствуется. Эстетическое любование стариной тоже отсутствует. Взгляд режиссера в прошлое реалистически строг, пристален и зорок, внимание к жизненным деталям и психологическим подробностям обострено. В поле его внимания — не глобальные социальные катаклизмы и не жанровые картинки, а частная жизнь рядовых людей в потоке быстротекущего времени. Он призывает зрителей вглядеться в их лица, соприкоснуться с ними сердцем. Артистов он уводит от бытовых характеристик, направляет к личностному присутствию в роли. Каждому он находит свою музыкальную ноту в общем сценическом сюжете.
В «Полустанке» хорош Даниил Толстых в роли Парня, покидающего свой опостылевший колхоз. Его тяготит маета расставания с Девушкой (Дарья Савичева), которой он ничего не может (да и не хочет) объяснить. Ни про накопленную социальную злость, ни про глухую зависть к городским, ни про жажду скорого реванша на внезапно открывшемся спортивном поприще. Артист играет не жанр, но тему — и точно попадает в сущность роли.
В «Неоконченном холсте» выделяется работа Елены Маркеловой. Роль Верочки она исполняет четко, внятно, искренне и просто. Несмотря на мелодраматизм сюжета об одинокой женщине, недооцененной и покинутой очередным «юным дарованием», она не позволяет себе ни одной слезливой интонации. Ее игра ни в чем не уступает более опытным коллегам.
И совершенно очаровательны Вячеслав Кузнецов и Людмила Корюшкина в «Голубиной гибели». Пожилых супругов, подкармливавших и нечаянно приручивших голубей, а затем вынужденных под давлением «коммунальной общественности» расстаться с ними, артисты играют с такой проникновенностью, что невольно вызывают ассоциации с Филемоном и Бавкидой, со старосветскими (старосоветскими!) помещиками. Оторопь берет, когда осознаешь, что милейший Сергей Иванович самолично убил злосчастных птиц. Артист не обвиняет своего героя, но объясняет его, раскрывая в нем сложное сочетание тихой радости, наивной растерянности, застарелой боязни неприятностей, всегдашней готовности к плохому и, главное, какого-то отупелого терпения ко злу. Не прибегая к сильным средствам, играет мягко, в рисунке роли нет ни одного резкого штриха, но боль за своего героя, за его бесцветно прожитую жизнь он заставляет ощутить.
В «Аресте» Дмитрий Ячевский играет не вкусно написанную роль, но внутренний сюжет рассказа, может быть, наиболее личный и для автора спектакля, и для него самого. Коллизия проста. Генерал Ермолов получает из Петербурга приказ об аресте чиновника Грибоедова «со всеми принадлежащими ему бумагами». Приказ он выполняет — по долгу службы. С его исполнением медлит — по долгу чести. Он дает возможность взятому под подозрение поэту сжечь компрометирующие бумаги, а в Петербург докладывает, что «таковых при нем не найдено, кроме весьма немногих, кои при сем препровождаются». На этом всё. Игра Ячевского напоминает о той непреложной норме порядочности, которая неподвластна никаким режимам, властям и общественным мнениям. К сожалению, молодой артист Сергей Загорельский, исполняющий роль Грибоедова, пока уступает партнеру по классу игры и, кажется, не очень хорошо знает и мало любит своего героя.
Сюжет «Прошлогоднего снега» замешен на любовном треугольнике, нередком в нравах богемы. Муж-делец, жена-актриса, любовник-беллетрист — ситуация известная. Любовник отнюдь не с неба свалился — это давний полуслучайный знакомый, внезапно пропавший на долгие пятнадцать лет. Теперь вернулся, говорит, что «в тайге был», и то не ей об этом сообщает, а ее маленькой дочке. Давняя сумасшедшая новогодняя ночь с внезапными любовными ласками, горечь так и не состоявшейся любви — это уведено в подтекст отношений Николая и Веры. Роман писателя и актрисы — банальнее некуда. Но Павел Гребенников (Николай) и Нелли Шмелева (Вера) размывают и на корню уничтожают любую банальность. За их отношениями интересно следить. И не хочется верить, что все, что с ними было тогда и происходит сейчас, всего-навсего никому не интересный «прошлогодний снег». Играется встреча, замешенная на расставании. Не том давнишнем, а теперешнем, на наших глазах перетекающем в прощание навсегда.
«Свечечка», по существу, представляет собой сплошной монолог Автора, обращенный к Сыну. Рассказ невероятно труден для исполнения. Здесь искусной читкой текста не обойтись — нужно работать не «театральными мускулами», а «артистическими нервами». Дмитрий Ячевский опять на высоте. Полное ощущение, что он не слова роли произносит, а подает в зал глубоко воспринятые смыслы когда-то пережитого, но не отжитого до конца. Редко кто из артистов может так глубоко погружаться во внутренний мир своего героя и так цепко держать внимание публики. По окончании сцены в зале слышны возгласы «Браво». Справедливости ради стоит отметить, что и бессловесную роль Сына Павел Степанов провел выдержанно и с большой точностью.
И, наконец, финальный сюжет, давший название всему спектаклю. Он звучит неожиданно бурно, даже бравурно. Трифонов, трудно шедший к своей теме в литературе, некоторое время пробавлялся спортивными очерками и зарисовками. Такой картинкой из жизни выглядит и «Прозрачное небо осени» — своеобразный парафраз чеховского рассказа «Толстый и тонкий». Только встречаются в зале захудалого аэропорта не чиновники, а тренеры: преуспевающий в столице «толстый» Величкин (Антон Алипов) и застрявший в отдаленном райцентре «тонкий» Галецкий (Олег Алексеенко). Оба шумно радуются, наперебой рассказывают, как идут дела, обмениваются контактами. Молодежь поглядывает на них и недоумевает: что у них может быть общего и чему они так радуются? Сцена буквально искрит юмором и чем дальше, тем больше вызывает веселье и смех в публике.
Под финал оба героя сочли друг друга неудачниками и каждый от души пожалел состарившегося школьного приятеля: «толстый» — за то, что у подававшего надежды «тонкого» не состоялась карьера, а «тонкий» — за то, что у прорвавшегося к спортивным высотам «толстого» не сложилась жизнь. Тут смех зрителей перешел в откровенный хохот, и на этой бодрящей ноте закончилась почти четырехчасовая «история в рассказах» о путях-дорогах человека.
«Три Юрия» писали плотную, насыщенную прозу. Той же густотой сценического повествования отличается спектакль Александра Коршунова. Каждый из сюжетов разрабатывается детально, разыгрывается подробно и исчерпывается до конца. Для публики это непросто — внимание невольно слабеет, восприятие устает, тем более что действие движется от сюжета к сюжету порой избыточно размеренно, вне явных действенных синкоп и тайного внутреннего развития. Но те, кто «сдал экзамен» на прочность, оказались вознаграждены полнотой театрального впечатления.
Александра Коршунов вступил в прекрасную и мудрую осень жизни и при свете осеннего солнца поставил спектакль, полный душевной ясности и надежды на лучшее.
Февраль 2024 г.












Комментарии (0)