Л. Толстой. «Анна Каренина».
Театр «Гешер» (Тель-Авив).
Постановка Римаса Туминаса, художник Адомас Яцовскис
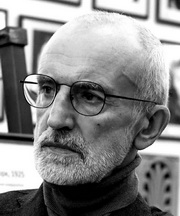
Почему Римас Туминас решил поставить «Анну Каренину» в израильском театре «Гешер»?1
Это вопрос не риторический, при том, что однозначного ответа на него нет. Возможно, потому, что диалог режиссера с Толстым было трудно остановить и после «Войны и мира» в театре Вахтангова (премьера — в ноябре 2021 года) естественным продолжением стала работа над «Анной Карениной», романом сугубо лирическим, где апофеозу субъективности сопутствует множественность голосов. Лирический роман с его атмосферой то скрытой, то явной безнадежности оказался текстом, соответствующим трагичности момента. Время войны — время лирики и личных чувств, освобожденных в отличие от прочих переживаний от риторики и фальши, сохраняющих правду ужасов, страхов, предательства и мужества. В этом смысле обращение к «Анне Карениной» не уводит от настоящего, но возвращает к его трагической составляющей.
Спектакль Туминаса (премьера в январе 2023 года) сопоставим с греческой трагедией (инсценировка: Римас Туминас, Мария Петерс, драматургия — Катя Сосонская). На сцене там властвует рок несчастья, подчиняющий себе все происходящее. Противостоять ему бессмысленно и невозможно. В отличие от романа Толстого в спектакле практически нет мгновений счастья, так что знаменитую максиму, открывающую этот роман, «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» следовало бы изменить, добавив к первой части фразы другое окончание: все счастливые семьи похожи друг на друга… только семей таких на свете не бывает.
На сцене «Гешера» обреченность героев «АнныКарениной» очевидна с первых мгновений действия, она обнаруживается даже в почти репризной клоунаде Стивы Облонского (Алон Фридман), и в животной, какой-то лошадиной элегантности Вронского (Галь Амитай), и в лишенной всякой милости глупенькой Кити (Нета Рот) — бог весть за что мог полюбить ее Левин (Мики Леон), и в Анне (Эфрат Бен-Цур), женщине красивой, чрезмерно возбужденной и несчастной. Даже Левин утратил в этом обреченном мире свою спокойную положительность, и с ним не связываются надежды на торжество труда и разума. А Каренин (Гиль Франк) — не плох и не хорош, безмерно поглощен собственной бедой, его патологическая устремленность к порядку не пугает, не вызывает отвращения, только — сочувствие. Он двойник Анны. Как и она, Каренин готовится к гибели и несется на всех парах к катастрофе. Вместе с тем кажется, что из этой «Анны Карениной» изъята оправданность чувств — не за что так любить ни этого Вронского, ни эту Анну, не за что так ненавидеть Каренина, все происходящее случайно и лишено закономерности. Ни грамма поучительности, ни провинившихся, ни безвинно виноватых в мире Туминаса не обнаруживается. Думаю, что Толстой на сцене «Гешера» сблизился с Чеховым, мир чувств так же, как и все остальное, предательски лишился смысла, и роковая сила ежесекундной безвыходности подчинила себе всё и всех.
Связь с Чеховым — не только в атмосфере спектакля, но и в сценических цитатах. Крутящийся волчок, прерывающий ход действия, на который смотрят герои спектакля, каждый по-своему — кто с улыбкой, кто со скукой, — прочитывается сразу как цитата из «Трех сестер». Странная фигура в черном (Никита Гольдман-Кох), возникающая неожиданно и будто бы без причин, персонаж без имени и без сюжетообразующих функций, напоминает о мистическом прохожем из «Вишневого сада». И не только: этот бесполый, бестелесный странник, стремительно проносящийся по сцене, временами будто порхающий над действием, не может не напомнить о Прохожем из «Гадибука», пришельце непонятно откуда, наделенном особым парадоксальным знанием, персонаже устрашающем, провозвестнике другой правды. Вместе с тем, напоминая о том «историческом» Прохожем, этот, пробегающий по сцене в «Анне Карениной», лишен голоса и не произносит ни слова. Зловещность его немоты как знака настоящего времени производит сильное впечатление. Реплика из канонического ивритского спектакля внутри сценического действия «Анны Карениной» во многих смыслах символична. Тот «Гадибук» в 1922 году был поставлен Вахтанговым на сцене «Габимы», принеся мировую славу и театру, и режиссеру. Спектакль «Гешера» — постановка режиссера, который до недавнего времени был художественным руководителем театра имени Вахтангова. Прохожий-реплика из «Гадибука» трогает своей неожиданностью, напоминая о словах Станиславского, написанных в напутствие «Габиме» в 1926 году: «В искусстве нет различия в положении, в религии, в национальности. Искусство — та область, где может существовать братство народов»2.
Действие «Анны Карениной» происходит на практически пустой сцене, где все затоплено черным цветом: стены, пол, задник — все черное (сценография Адомаса Яцовскиса). На пустой черной сцене стоят три неестественно длинные черные скамейки, то ли садовые, то ли вокзальные, и сбоку — два черных стула, которыми иногда пользуются персонажи. Пространство не обозначает ни время, ни место, только метафорический мрак, жизнь на перекладных, где белыми пятнами то и дело вспыхивают белый офицерский мундир Вронского, белое обнаженное колено Анны, ее белая ночная рубашка и белый отложной воротничок Каренина (костюмы Ольги Филатовой). У каждого — своя белая вспышка в окружающей тьме. На черных стенах обозначены еще и темно-серые проемы — то ли наглухо закрытые окна, то ли проходы, будто утверждающие, что света нет и не будет и прийти ему неоткуда. Садик Левина и Кити, появившийся ненадолго во втором акте, обозначенный искусственным деревом в кадке, лишь подчеркивает фальшивость всего, кроме тьмы. Демонстративный минимализм и его символика сгущают смыслы и нависшую над миром трагическую атмосферу. Это пространство перекликается, конечно, с «Войной и миром» в театре Вахтангова, но вот радостной силы, воздушных танцев-полетов в «Анне Карениной» нет. Только тьма, и белое не разгоняет этой тьмы, но лишь усиливает ее.
В апреле 2022 года театр Вахтангова должен был привезти «Войну и мир» в Тель-Авив, объявлены были даты, и даже распроданы билеты. Театр не приехал. Возможно, поэтому и будто «в компенсацию», когда Туминас приглашен был на постановку в «Гешер», возникла «Анна Каренина». Зрителю, пропустившему «Войну и мир», предложен был другой великий текст Толстого в интерпретации того же режиссера. Но мир с тех пор переменился, мгновенная реакция сцены на эти перемены вывела на первый план роковое — спасения нет. В этой постановке вопрос о том, почему Анна бросилась под поезд, не возникает. Странно, почему одновременно с ней не покончили с собой все остальные персонажи спектакля. Действие на сцене, пренебрегая логикой уже запланированной удачи, обещанной успехом постановки «Войны и мира» и ее изумительным балансом, нарушив равновесие, пошло ва-банк. Правда чувств оказалась не в чувствах персонажей, но в чувстве истории, где гуманизму не отвели места. Вместо праздника великого романа о силе любви на современной сцене представлены были апокалиптические картины распада самого хода жизни. Спектакль, несомненно, имеет своих фанатов, но кажется, что зритель в целом смущен.
В каком-то смысле ситуация с постановкой «Анны Карениной» и приглашением Римаса Туминаса, одного из наиболее ярких режиссеров сегодняшнего театра, сопоставима с приглашением в «Габиму» Михаила Чехова в 1930 году. «Габима» тогда предложила Чехову поставить «Двенадцатую ночь», пьесу, где когда-то еще в Москве он прославился в роли Мальволио (режиссер Б. Сушкевич, 1917). Правление «Габимы» полагало, что это гарантирует успех без усложненности фантастического реализма. Но Чехов 1930-го был уже артистом другого опыта, его «Двенадцатая ночь» превратилась в трагикомическую феерию, фарс о «битве идей» с мучительным вопросом «как жить?» в мире, где нет внутренне свободных людей3. Режиссура Чехова, как и режиссура Туминаса, была картиной мира, живущей по собственным, никому и ничего не гарантирующим законам.
Сопоставление «Гешера» с «Габимой» напрашивается само собой, их истории во многом рифмуются. Оба театра имеют русские культурные корни и связаны с русской режиссерской школой. В 20–30-е годы прошлого века зрительская аудитория «Габимы», покинувшей Москву в январе 1926-го, состояла из знатоков и поклонников театрального искусства, образованных слоев еврейских общин Европы, Америки и Палестины и многочисленной русской эмиграции. Спустя сто лет зрители театра «Гешер» в Израиле — это образованные слои израильского ивритоязычного общества и многочисленные русскоговорящие репатрианты, приехавшие сюда в разные годы. Связь с русской культурой существенна и для тех, и для других. Для многих израильтян в русской культуре — истоки самого феномена интеллектуальной независимости, и «Анна Каренина» для них один из важнейших романов, для репатриантов связи с русской культурой — неотрывная часть жизни. У этих зрителей разные ожидания и разная придирчивость. Сегодня, как и сто лет тому назад, многоликость аудитории создает эффект резонанса, объемы смыслов, и художественных, и экзистенциальных. Для израильтян интерес к спектаклю обуславливается приверженностью к утонченности психологической литературной традиции. Для репатриантов это во многом вопрос собственной культурной идентичности. Спектакль идет на аншлагах, но отношение к нему сложное. Кажущаяся простота его стремительных мизансцен, собирающиеся-распадающиеся группки персонажей, короткие диалоги на бегу — даже когда присаживаются на скамейки, все равно на бегу — заряжены болью такой силы, что места для аналитических размышлений не остается. И трудно понять, как к этому относиться. Надо либо отдаться этому потоку, либо уклониться и жить собственной жизнью.
Израильский коллега, профессор классической филологии в Еврейском университете, прочитавший все великие русские романы, посмотрев «Анну Каренину», с некоторой робостью сказал мне: «Там все странно в этом спектакле, да и в самой Анне нет никакой привлекательности». Для него спектакль не укладывался в каноны русской классики с ее богатством оттенков, сложным внутренним миров героев. Русскоязычные зрители «Анны Карениной» очевидно разделены на две категории — восторженные поклонники и раздраженные отрицатели спектакля. Недоумение зала прочитывается в завершающих действие аплодисментах — долгая тишина, потом — гром оваций, и снова тишина.
Ася Волошина, петербургский драматург, проживающая сегодня в Израиле, на встрече со студентами кафедры театра университета Оттавы (класс профессора Яны Меерзон) предложила понятие «грязный катарсис» как наиболее соответствующее нашему времени. Катарсис, который потрясает, но не сулит очищения. При всей остроте этого понятия согласиться с ним трудно. И «Анна Каренина» тому пример. Главные участники этого спектакля — израильские актеры, работающие в «Гешере», не знающие русского языка, научившиеся театральному мышлению и театральной страстности у Евгения Арье. Туминас вовлекает их в свой мир. Актерское существование в «Анне Карениной» необычайно и для израильской сцены, и для театра «Гешер». Отказавшись от форсирования текста, актеры работают на полутонах, и сценическое действие предстает как кружево недосказанностей, смешков, недомолвок, за которыми вырастает трагический подтекст и великая традиция русского психологического театра. Ее представляют на тель-авивской сцене учившийся в Москве литовский режиссер Римас Туминас и молодые израильские актеры. Роман, прочитанный ими как трагическая притча о том, что выхода нет и не будет, сохраняет самим способом актерского существования пространство для того, что Бунин называл легким дыханием. Михаил Чехов именовал легкость эстетической категорией. В этой легкости вопреки всему — продолжение жизни, очищение, катарсис.
Март 2023 г.
1 Театр «Гешер» был создан в 1990 г. в Тель-Авиве российским режиссером Евгением Арье и группой его учеников. В первые годы театр работал на двух языках — русском и иврите. Потом перешел на иврит, включив в состав труппы большую группу молодых израильских актеров, со временем превратившись в один из ведущих репертуарных театров Израиля.
2 Станиславский К. С. Пожелания Габиме к турнэ // Московский театр Габима. Турнэ Европа — Америка. Рига: Хасафа, 1926. С. 7.
3 Так следует из записей репетиций Мих. Чехова, сделанных в 1930 г. актрисой «Габимы», Фанни Любич.













Комментарии (0)