В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ… Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.
Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.
Много лет прошло, как его не стало, — не верится, что больше двадцати пяти. Подсчитала от 1988 года к нынешнему, 2014-му, и ужаснулась. Четверть века как один день. Кажется, что все было вчера: первый курс, источниковедение — Анатолий Яковлевич Трабский.
Он входил в аудиторию с большим портфелем, и ясно было, что портфель тяжеленный. Потом он начинал извлекать из него большие, толстые тома. Делал это с загадочным видом, будто каждый том — величайший сюрприз. И каждый — ценность, которую надо изучать, сохранять, лелеять. Рассказывал Анатолий Яковлевич про книги торжественно, с совершенно натуральным волнением — газетный справочник Лисовского это или «Театральная периодика» Вишневского — все становились поводом для педагогической поэмы. В каждом фолианте обнаруживалась уникальность, каждый открывал свои секреты постепенно, шаг за шагом, будто отдавал сокровища. Так это виделось Анатолию Яковлевичу, так он их подавал, эти старые книги. Мы их благоговейно листали, стараясь не порвать пожелтевшие страницы, иногда такого формата, что стола не хватало их развернуть. Ясно было, что теперь таких не делают и в наших руках не просто собранные кем-то сведения, а еще и живая история книги как таковой. Наверное, благодаря подобному отношению лекции запоминались.
Поразительно, но и скучнейшие вроде бы справочники запоминались — по голосу, по интонациям, с которыми о них повествовалось. Они, эти интонации, эти паузы, прежде чем назвать очередного автора или редактора, и сейчас живы в памяти.
Но, может, это только у меня так. Мы с Анатолием Яковлевичем дружили, и я слушала про книги больше, чем другие, — про те, что только вышли из печати и прочитаны, и те, что изданы давно и заново открыты.
А подружились мы, когда я училась на втором курсе и ходила ежедневно в Библиотеку Академии наук — просматривала и конспектировала статьи суворинской газеты «Новое время» за двадцать лет, потому как писала курсовую про Юрия Беляева в семинаре по истории театра. Там и виделись неделя за неделей, делясь тем, что обнаружилось и где еще что поискать. Конца таким разговорам не было. И сохранились они на всю оставшуюся жизнь. А потом, после окончания института и аспирантуры, Анатолий Яковлевич порекомендовал меня на работу в тогдашний НИО (научно-исследовательский отдел ЛГИТМиКа) на сектор источниковедения, где работал вместе с еще одним замечательным Анатолием Яковлевичем — Альтшуллером, взял надо мной шефство и учение мое продолжилось…
Меньше всего я могла предположить, что буду это самое источниковедение преподавать студентам, но когда Анатолия Яковлевича внезапно не стало (пришел на работу, и остановилось сердце), то просто невозможно было отказаться и не подхватить его дело.
Понадобились годы, чтобы привыкнуть, что некому позвонить и получить любую справку, про самого незаметного какого-нибудь театрального деятеля. У Трабского накопилась за десятилетия огромная картотека — во всю стену его кабинета в небольшой квартирке на Васильевском острове. Аккуратные ящики, заполненные бесчисленными карточками, хранили порой редчайшую информацию, и он с готовностью, без малейшей заминки ею делился. Надо было обладать особым вкусом и любовью к факту, радоваться мельчайшим сведениям, редким упоминаниям, чтобы постоянно и стоически карточки заполнять, добавлять ранее неизвестное, закрывать белые пятна чьих-то биографий. Его герои были для него живыми людьми — он мог рассказывать о них как о знакомых.
О себе же говорил мало. Это уже потом, подготавливая справку о Трабском для энциклопедии Российского института истории искусств, которая посвящалась столетнему юбилею детища графа Зубова, я прочитала личное дело, хранящееся в архиве. Узнала про то, что прошел всю войну (Ленинградский фронт, Волховский фронт, 3-й Прибалтийский фронт — солдат, комсорг стрелкового батальона 374 полка 128 дивизии, старшина). Награжден орденом Славы III степени, медалями «За оборону Ленинграда», «В память 250-летия Ленинграда», тремя медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Вооруженных сил СССР». Был тяжело ранен — восстанавливался год. В 1945-м поступил в Уральский университет на филологический факультет (в Свердловске оставался на лечении после ранения)… Потом, в 1946-м, перевелся в будущий ЛГИТМиК, на театроведческий факультет.
Самое известное издание, которое мы связываем с Анатолием Яковлевичем, — четыре тома публикаций под названием «Советский театр. Документы и материалы». Он был увлечен этим делом, начатым Анатолием Зиновьевичем Юфитом, и им продолженным, сожалел, что не все собранные многочисленные архивные тексты вошли в книги, тормозится издание следующего тома, почти готового… Это огромная работа, к которой обращаются историки, изучая 1920–1930-е годы отечественного театра и сегодня. Издание с фундаментальным научным аппаратом — сейчас не часто такое встретишь: тщательно проработанные примечания, списки провинциальных архивов, где хранятся материалы по искусству, продуманные указатели… По-настоящему академическое издание, классика театроведения.
Анатолий Яковлевич любил повторять, что книгу надо придумать, тем более если она публикационная с системой примечаний и указателей — так, чтобы удобно было пользоваться и извлекать максимум информации. Вот так он «придумывал» свои методички: по источниковедению и библиографии — правилам библиографического описания произведений печати. Не одно поколение студентов ими пользуется — можно сказать, это настольные книги. Уже и правила изменились, и ГОСТы новые ввели, примеры поменялись, а структура, подача сведений, объяснений все те же. Поэтому, раз за разом переиздавая эти учебные пособия, мы так и продолжаем указывать Анатолия Яковлевича Трабского как основного автора. Толково изложить запутанные правила, найти удобные для разъяснений примеры, представить весь материал в такой последовательности, которая сама по себе позволяет закреплять и углублять понимание предмета, — все это замечательно удавалось Трабскому. И только когда сам преподаешь, это понимаешь и ценишь, а еще понимаешь, сколько потрачено времени и сил, чтобы в итоге получилось легко и просто и тем, кто слушает, и тем, кто излагает материал. По сути методички по источниковедению и библиографии есть готовые конспекты лекций с запасом на десятилетия, на которых растут не только студенты, но и новые поколения педагогов.
Толстые тома и небольшие книжки, придуманные Трабским, из разряда тех, что часто берутся в руки, они в постоянном пользовании, в активе — исследовательском и преподавательском. Что может быть лучше, чем такая память — ежедневная, постоянная, благодарная?
Анатолий Яковлевич Трабский был человеком скромным, менее всего заботился о том, чтобы войти в историю, чурался пышных слов, избегал пафоса. Он не знал, что он — эпоха, олицетворение того, что мы называем школой.
2014 г.
МИГ Трабского
«Место, издательство, год. МИГ. Запомните это на всю жизнь», — учил Анатолий Яковлевич. И мы шли писать сотни карточек, расписывать журнал «Рабочий и театр». Если говорить о школе, то вот эта школа — место, издательство, год, точка, тире… — была вбита в руку тысячей заполненных и проверенных им карточек так, что никакие (никакие!) новые ГОСТы библиографического описания я усвоить уже не могу, мучаюсь и краснею. Чтобы эти ГОСТы снова «вошли в руку», как гамма, нужна эта тысяча карточек к зачету первого курса…
А. Я. Трабский был на самом деле человеком лирическим, трогательным, скромнейшим, боготворившим свою жену Майю Яковлевну и сына, моего однокурсника Гошку. Он относился к тому поколению наших учителей, которое свято верило в необходимость тщательных театроведческих штудий, в их незыблемость. Они не могли предположить, что наступит время, когда стране будет не нужно гуманитарное знание, когда никто не будет интересоваться настоящими источниками, удовлетворяясь интернет-ссылками, и театроведение исчезнет из государственного перечня специальностей. Они прочно стояли на базовых матрицах театроведения, таскали свои неподъемные портфели и не терпели профессиональной неряшливости. Анатолий Яковлевич был учителем театроведческой гигиены. Место-издательство-год. МИГ. Миг, который длится всю мою театроведческую жизнь.
2014 г.






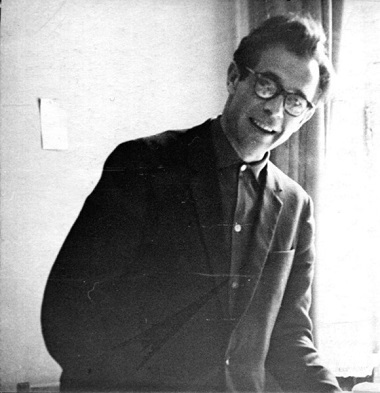
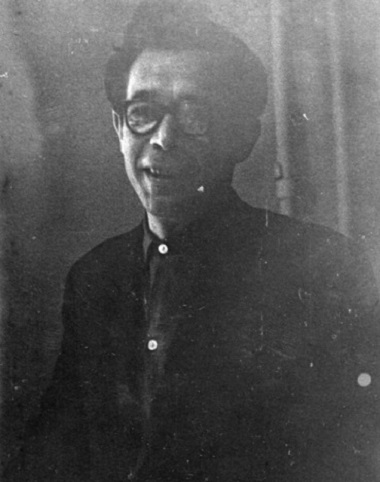


Он вошёл в аудиторию и честно признался — проблема заключается в том, что источниковеденье ставят в первом семестре на первом курсе, когда никто из студентов даже примерно не понимает, что это такое, и зачем!!!
А потом, вы будете за мной ходить все пять лет с вопросами!!!
Все так и было — именно Анатолий Яковлевич научил меня на всю жизнь работать с любым источником, он был Неповторим!!!
СПАСИБО!!!
Я любила источники и библиографию — ещё до поступления в ЛГИТМиК. Поэтому у нас с А.Я. Трабским был роман. Совместный — с его предметом. Мне на всю жизнь запомнилось его: «Пушкин? А.С.? Надо проверить!». И студентов тому же учила. Только теперь им это без надобности.