Из типографии пришел тираж «Охотничьих книг». Их три: «Театр 1980-х», «Театр 1990-х» и «Театр начала нулевых». Каждая обложка — общая тетрадь (кто-то узнает свою тетрадку 80-х, кто-то — 90-х), и на каждой книжке — цитата из стоппардовской «Аркадии»: «Отцу незачем вести дневники, вся его жизнь в охотничьих книгах». «Охотничьи книги» и изданы, как дневники: с рукописными почеркушками, отсылками, с графическими иллюстрациями Р. Габриадзе и заметками на полях самой М. Дмитревской.
Редакция «ПТЖ» поздравляет саму себя с новым изданием «Библиотеки ПТЖ» (ждали его долго). А в блоге мы публикуем вступительный текст М. Дмитревской, чтобы понять, почему же эти книги — охотничьи, и почему автор, много лет повторявший, что библиотеки и так перегружены и что жалко тратить русский лес на очередное издание, все же собрал эти сборники…
В названии книги о театре положено быть слову «театр». Театр конца, начала, любовь моя, жизнь… Или «театральный». Театральная площадь, повесть, театральный круг (кстати, неплохое название — «Театральный круг».). Еще театральными бывают время, эпоха, жизнь, судьба, магазин.
Если в названии театральной книги нет слова «театр», то обязательно присутствуют занавес, кулисы, фойе, звонок (как правило, третий). Честно сказать, от театральной атрибутики устаешь, а куда деваться?
Я решила деться. И задала себе вопрос: что такое были годы занятий театром и театральной критикой? Это была охота.
Охота за впечатлениями, за искусством, спектаклями, живым театром. Иногда — за людьми и их мыслями (так сложилась книга «Разговоры»).
Была охота ходить в театр, овладевать профессией, ее законами — этическими, эстетическими, органическими.
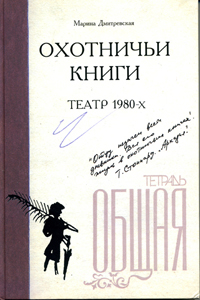
«Отцу незачем вести дневники, вся его жизнь в охотничьих книгах», — говорит Томасина в «Аркадии» Тома Стоппарда. Статьи театрального критика и есть его дневники, его охотничьи книги. Хронологию собственной жизни, в том числе внутренней, часто восстанавливаешь по статьям, они дают вспомнить, что волновало тебя в тот или иной момент.
Итак, это будут «охотничьи книги», театральные дневники: сегодня — куропатка, завтра — вальдшнеп или, не приведи господи, чайка. И каждый раз нужно попасть в точку, поймать замысел, не промахнуться в словах. Только вот не надо сейчас — про «убить словом», отмечая красными галочками «ругательные» статьи (они почему-то запоминаются лучше «хвалебных»). Обвинения в убийстве я слышу всю жизнь, причем от людей, от которых самой приходится порой отстреливаться.
На самом деле «Охотничьи книги» — название совсем не агрессивное, вот и классик с ружьем ходил по России, наблюдая и записывая прекрасные картины родной природы и тяжелой окружающей действительности. Окружающая меня несколько десятилетий тяжелая и прекрасная действительность во многом состояла из театра. И я честно описывала эти картины «живой природы», вела «записки охотника». Накопилось около 1000 таких «записок», публикаций, из которых я решила что-то выбрать и издать.
Зачем?
Первая причина. Этого много лет хотела и ждала моя мама. И я постоянно обещала, но бежала учить студентов, спасать «Петербургский театральный журнал», обсуждать театры и собирать фестивали далеких регионов — словом, жила жизнью театрального критика-охотника. Мамы нет уже семь лет, обещание пора выполнить.
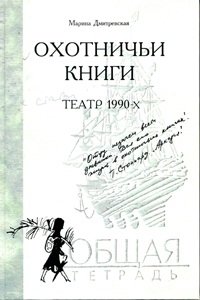
Вторая причина — я много лет учу студентов. И каждый год понимаю: искать что-то, пусть даже необходимое, по ветхим жур-налам, им, детям одного библиографического источника, Интернета, — все труднее и мучительнее. Но так вышло, что почти все большие статьи о значительных ленинградских спектаклях 1980-х годов были написаны именно мною. Сейчас, когда «Петербургскому театральному журналу» 20 лет, трудно представить себе, что такое была жизнь в городе, 55 лет существовавшем без журнала: выходили общие газеты, а в центральной прессе ленинградские критики, мои учителя, печатались крайне редко. И когда с конца 1970-х, сразу после института, журнал «Театр» начал регулярно печатать мои статьи, — это был прорыв какой-то блокады: до этого никто из ленинградцев постоянно в центральном журнале не выступал.
Эти давние статьи — портрет ленинградского театра 80-х — я и решила «актуализировать» в первую очередь. В первозданном виде. Хотя перечитывать «забытую себя» мучительно, не менее мучительно знать, что множество текстов было изуродовано советской цензурой и редакторами, они названы не моими заглавиями и именно в таком виде хранятся в библиотеках. После выхода очередного подцензурного обрубка я обычно писала гневное письмо в редакцию, а мама брала исходный экземпляр и красным фломастером помечала все сокращения и искажения. Теперь я проделала обратную работу по возвращению слов, абзацев и названий: это мой долг перед «искаженными» спектаклями и посильная помощь тем, кто хочет узнать, «как хорошо мы плохо жили».
При этом многое объяснить уже трудно, но форма охотничьей книги дает возможность откомментировать что-то на полях и помимо текста, ведь дневник дает право комментирования через много лет (спасибо моим недавним студенткам, которые мне это подсказали).
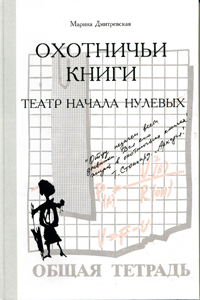
Третья причина — сугубо профессиональная. Последние годы мне упорно кажется, что мы занимаемся не театральной критикой, а чем-то другим. Что такое, с моей точки зрения, театральная критика, я попыталась объяснить в статье «О природе театральной критики», которой открывается первая книжка. Перечтя собственные тексты, поняла, что лишь некоторые могу отнести по ведомству художественной театральной критики, к которой всегда стремилась. И было это давненько, в той неспешной жизни, где была возможность долго искать слова, вживаться в спектакль, не однажды пересматривая его, думать, ездить в метро с блокнотом, чтобы возникшая фраза/мысль не забылась и сразу была «приколота» ручкой к бумаге. Я долго верила в «энергию руки»: когда буквы у тебя под пером — они подчинены тебе и руку кто-то водит, а перепечатанные на машинке, слова отчуждаются, их можно править и корректировать, но они уже твои… Словом, была другая жизнь, и следы той жизни заметны в старых текстах.
И, конечно, безумно изменилась за эти годы лексика. И вообще, и, как кажется, моя.
Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что театроведческие статьи могут принести пользу только в Интернете. И тем не менее собрала эти книжки «доинтернетной» и «раннеинтернетной» эры. Когда они вместе, легче прочерчиваются режиссерские судьбы, видны переклички-перекрестки, тем более театральный «лес» достаточно невелик, мы ходим по одним и тем же опушкам, перекрикиваемся в трех соснах, охота за театром происходит на довольно узкой территории. Центром здесь был для меня, естественно, Петербург… и далее везде.








Мариша, поздравляю!
Очень хочется почитать
Дорогая Марина Юрьевна! Охотничьи — это замечательно! Ведь театр начинался с Охочих комедиантов. Где охочие комедианты, там и охотничьи критики. Охота как страсть к театру… А как выписать Вашу трилогию? — ведь и наших студиозусов тоже надо учить!..
Ой, мы с радостью пришлем на любой указанный адрес наложенным платежом!
Отправили. Почта взяла 250 р.
Поздравляю от всей
души!
Спасибо!
Важно, что книги — от первого Лица. Личностное начало, интонационное, человеческое, эстетическое пронизывает все.
Приходите на презентацию! http://wordorder.ru/news/dmitrevskaya-presentation/
Это, на мой взгляд, и летопись театральной жизни страны за четверть века, и полезный источник для будущих историков театра и отечественной театральной критики, а в чем-то и исповедь души театрала. С Диалогами (то есть Разговорами) Охотничьи книги составляют единство. Вся тетралогия дает целостное (и субъективное – как же без этого?) представление о жизни театра в переломную (кризисную?) эпоху. Я уже начал неспешно, не торопясь читать отдельные статьи из разных томов, как когда-то, год назад медленно читал и перечитывал диалоги. В результате само собой приходит понимание, что театр – именно синтетическое искусство, результат усилий режиссера, актера, драматурга, художника, композитора и много еще кого. Каждый из них может быть мастером! И в то же время это целостный художественный мир, живущий по своим сложным и непреходящим законам.
захотелось прочитать!