Года два назад, к 40-летию Победы, более 70 театров страны — "все, как один", поставили одну и ту же пьесу — "Рядовых" Дударева. Ссылки режиссеров на то, что якобы у нас нет хорошей драматургии о войне, звучали вяло и неубедительно. Тем более, что театр сейчас, как никогда, кормится прозой в неменьшей степени.
Потом полсотни театров бросились ставить пьесу "Последний посетитель". Тоже стремились отметиться пониманием процессов перестройки.
Потом настала очередь бестселлера под названием "Иван"…
По Москве и Ленинграду своеобразным рекордсменом стал БДТ, бодро поставивший все три вышеупомянутые пьесы. Очевидно, полагая, что, заручившись поддержкой этих драматургических вкусов, оптимально проявит себя в текущем театральном процессе.
Инерция мышления? Боязнь риска? Ставка на благополучную проходимость?
Трижды был прав Михаил Шатров, предусмотревший опасность бессодержательного шествия пьесы по площадкам страны и запретивший ставить "Так победим!" кому-нибудь, кроме МХАТа.
Но у этой проблемы есть ещё одна грань.
Ведь никто вслед за театром на Таганке не рискнул ставить его, лично этого театра постановки — "Антимиры", "Десять дней", "Товарищ, верь!.." и т. д. — такое перенесение, кроме прочего, было бы в известной степени малоосмысленным. Вл. Малыщицкий, сознательно ведший Молодежный театр по принципам и вехам, нащупанным Ю. Любимовым, создал свою композицию — "Цена тишины", хотя никто не мешал ему взять текст "Павших и живых". И созданные М. Левитиным композиции — по Хармсу, Чехову, материалам 1 съезда писателей и другие — тоже пока не берутся ставить другие режиссеры. И совершенно правильно делают.
Марк Захаров создает не композиции по чужому творчеству, а собственные пьесы при участии драматурга-соавтора, причем пьеса эта создается буквально в ходе репетиций. Не раз он так поступал и не два, а постоянно: от "Автограда" и "Тиля" до "Проводим эксперимент" и "Диктатуры совести". Но во времена "Автограда" другие режиссеры не спешили поддерживать рискованные жестокие игры Захарова. А сейчас все убедились в торжестве диктатуры эксперимента. И осмелели.
Пьесы "Захарова и…" — Визбора, Черных… — представляют собой, конечно же, не канонический текст, пришедший в литературную часть, а — окончательный вариант, зафиксированный после того, как на генеральной или чуть раньше произнесли его актеры. А не наоборот.
И подумалось мне, что тиражирование таких пьес по многочисленным театрам — изначально занятие неблагодарное. Ведь сам материал сопротивляется такому подходу, ведь рассчитан он на вольное обращение и творческую свободу. А это для режиссеров непривычно. Они гораздо уютнее чувствуют себя в путах тесных рамок. Не все, конечно, но большинство прекрасно освоилось в таких условиях, когда за вынутое из классика слово подвергаешься гневу от всех на свете инстанций, кончая критиками.
Как же быть, когда сам драматург, добровольно, отдает значительные куски пьесы на импровизацию актерам?! Играйте, как бог на душу положит! И в роли бога приходится выступать постановщику спектакля. А это груз чересчур весомый и чреватый непредсказуемыми последствиями.
Но если не обращать внимания на разрешения, позволения, узаконенную вольность, рекламируемую гласность и сознательно впихивать себя в рамки запретов и самоцензуры, то и с такой непривычной пьесой, как Диктатура совести, можно обойтись. И обойтись довольно лихо.
И обойтись хочется. И обойтись именно с ней, а не без нее. Потому что (как говорят) это сейчас самое-самое, и нужно торопиться отметиться в передовых. В Москве-то, рассказывают, на улице Чехова — такое творится! Так что учтем, что зритель падок на сенсации, пусть даже преображенные по пути из Москвы в Ленинград согласно принципу "испорченного телефона".
Жизнь вносит коррективы. Эксперимент диктует свои условия. Приходится изворачиваться. Но привычка выручает.
Импровизации можно канонизировать. Хеппенингов не допускать. И в прочие сомнительные игрушки не играть. И чтоб зрители и не помышляли. И о Москве не вспоминали. Поскольку здесь вам не там, Рубен Сергеевич не Марк Анатольевич, а Раков — не Чехов.
Зритель и не помышляет. Зритель понимает: он пришел в уважаемый, солидный театр, в котором не хулиганят; напротив, все будет культурно и спокойно. Зритель тоже хочет отметиться. А, значит, расчет театра верен, и можно смело двигаться со зрителем друг другу навстречу.
То, что мы видим в Москве на улице Чехова, спектаклем можно назвать на самом деле весьма условно. Я бы назвал это "представлениебуфф". И отметил бы, что оно практически неделимо на текст Шатрова и режиссуру Захарова. Желающие следовать не букве, а духу этого необычного действа, должны смело и вольно перекроить написанное и наполнить содержанием, соответствующим времени. "Споры и размышления февраля 1986 года" живы в Москве лишь потому, что театр чувствует разницу между февралем и мартом, мартом и апрелем, и между 86-м и 87-м. И Олег Янковский, спускаясь в зал, разговаривает со зрителем о том, что сейчас, сию минуту происходит за стенами театра. Зритель, за редким исключением, с воодушевлением поддерживает контакт со сценой. М. Захаров не раз уже говорил, что серьезно опасается за судьбу спектакля, если он лишится сиюминутной злободневности. Природа его такова, что вчерашним днем он жить не может. Он сможет идти на сцене, но умрет. Умрет в безвоздушном пространстве сценической коробки. Умрет, если перестанет каждый раз доказывать право на существование, на остроту и чутье самых насущных проблем дня.
В большинстве случаев спектакли по "Диктатуре совести", не исключая и ленинградского, — мертворожденные.
Зритель, пришедший к Захарову, воспитан им в понимании зала театра, в активном соучастии и содействии.
Ленинградский зритель, как это не горько, оказался глубоко невоспитанным, причем невоспитанным дважды: политически и эстетически. То воспитание, на котором возрос зритель, пришедший весной на гастроли московского Ленкома, оказалось давно устаревшим. Москвичи были сильно озадачены нежеланием ленинградцев опробовать свой голос в протянутый микрофон. "Чем живет Ленинград? — настойчиво вопрошал Янковский, безуспешно пробуждая в зрителе соучастника. — Мы слышали, у вас тут с "Англетером" проблемы… А "Детей Арбата" вы читали? А статью в последнем "Огоньке"?" Зал корчился безъязыкий, мычал и заикался, не в силах вымолвить что-либо внятное, — в той его части, что была представлена молодыми людьми в потертых джинсах. В части же, представленной полными людьми в строгих костюмах, презрев все, на чем был воспитан, орал: прекратите это безобразие! Уберите волосатых со сцены! Отнимите у хулигана микрофон! Ответственный работник желает быть на гребне перестройки, посещает самый модный, самый дефицитный спектакль — а тут, понимаете ли, выскакивают возмутители спокойствия. Ну что это такое, в конце концов! Распоясалось хулиганье! Доиграются со своей демократией…
Горько и стыдно было перед гостями за ленинградцев. Увы, но девальвация понятия "ленинградец" стала столь болезненно ощутима, что только сунув голову в песок отчаяния, заставишь себя молчать. Но это тема отдельного разговора.
Ленинградский зритель (как хотелось бы сказать "псевдоленинградский"!), павший лицом в грязь перед политической и эстетической нетривиальностью ленкомовцев, возник не на пустом месте. А на той театральной ситуации, в которой погрязает театральный Ленинград уже не первый год, погружаясь от сезона к сезону все глубже в тьму рутины, серости и бескультурья. Теряя одного за другим лучших режиссеров, перебирающихся в Москву, а оставшимся неординарно мыслящим предоставляя невыносимые условия. Делая благороднейшую мину, выражающую полное довольство собственном положением, пожизненно утверждаясь в занятых креслах. Создавая молчанием иллюзию отсутствия проблем — текучки режиссерских кадров, повального шатания актеров, репертуарной сумятицы и понижения элементарного уровня интеллекта и культуры в закулисной среде.
Такой зритель, ошикающий и заезжих, и столичных новаторов, и местных бесхозных бунтарей удобен и полезен. Его стоит растить и лелеять. Ради его же вкуса адаптировать "по-пристойному" самое острое, самое свежее. Вам нельзя острого? Чего изволите?
Итак, результат: переведенная и, по сути, выхолощенная, "Диктатура совести".
"Так будем мы когда-нибудь работать по-новому или только говорить об обновлении?!!"
Вот так. С ходу. Ух, как смело! А чтоб ещё смелее — прямо в зал. И не единожды, а трижды. Подряд: "Так будем мы когда-нибудь…?!!" Вот мы какие.
Согласно тексту — "стены трещат и все ходуном ходит". Как это материализуется у Захарова и Шейнциса не забудет никто, кто видел. Метафора москвичей обнажает их политическое сознание — новый мир создается из обломков старого, их (обломки) не вынести за кулисы, не поднять на колосники. Не хотелось бы думать, что Р. С. Агамирзян так понимает перестройку, как демонстрирует он это всем принципом решения спектакля: чинно уплывают наверх стены редакторского кабинета и оттуда же, сверху спускаются поясняющие таблички — где расположится старый мир, где новый, где оркестр и т. д. И задник — "мистерия XX века", написанный в стиле позднего Ильи Глазунова, тоже спускается сверху. А все скамейки, вся конструкция будущего суда уже давно стоит. Приготовленная загодя не актерами, конечно, а рабочими сцены. Ничто не трещит и ходуном не ходит, хотя текст остался прежний и актеры нас в этом уверяют. "Слова, слова, слова…"
Конечно, острота текста вылезает наружу даже и сквозь такое приглаженное отношение к постановке. По-прежнему актуальны на сегодняшний день вопросы охраны социалистической законности, растущего гнета бюрократизма, поверхностного заучивания богатейшего наследия ленинской мысли. Но театр не газетная передовица. Любые, самые насущные проблемы должны облекаться живой плотью спектакля. Судьба публицистики — устаревать со временем. Если не делать ставку на импровизацию, хеппенинг, на постоянное обновление обсуждаемых со сцены вопросов, произойдет (фактически уже произошла) подмена всех ценностей. Спектакль должен ратовать за творческий, индивидуальный подход, за новизну форм — он демонстрирует обратное, своей заученностью, заштампованностью. Спектакль должен учить свободе мышления — он являет собой пример эстетического двоемыслия. Если делать упор не на реальное новаторское содержание пьесы, а на формальный сюжет о том, что произошло в редакции одной газеты — то вся суть оказывается повернутой с ног на голову. За так называемой остротой, которая хотя бы потому уже не острота, что не соответствует дню сегодняшнему ни детально, ни по форме изложения, не стоит эстетической платформы. Слова расходятся с делом. Новизну и свободу пропагандируем рутинными методами. Таков итог, и он даже не нулевой, а отрицательный — ибо вывод делается прямо противоположный тому, который задумывался. Зритель учится конформизму и беспринципности. Зритель учится приспособленчеству в условиях перестройки. Если подхватывать, слепо цитируя то, что идет из центра и тиражировать спектакли по всем сценам страны по старым принципам бытовой драматургии — то не спасут ни удачные актерские находки, которые просто не сцементированы воедино общей установкой режиссуры, ни самые благие намерения. "Меня не устраивает постановка, — говорит со сцены И. Краско, когда актеры выходят из образов и размышляют от своего лица. — Я бы с большим удовольствием почитал бы сейчас "Огонек"." Увы, но актер не прибедняется и не ради красного словца произносит эти горькие слова. Неизвестно, как его коллеги — они большей частью отмалчиваются, даже в этой сцене, продолжая что-то изображать, разыгрывая кто робость, кто недоумение и т. п. Но большинство зрителей согласны с актером. Что проку в прекрасных кусках — выходах Г. Корольчука, А. Матвеева, А. Эстрина? Они провисают в безвоздушном пространстве общей приблизительности и невнятности, непонимании того, ради чего стоило браться за постановку "Диктатуры совести" — освобождении от вчерашнего, снизу доверху, начиная с себя. От вчерашнего мышления, вчерашней робости. Из конкретности пьесы вышло нечто абстрактное, "острота" вообще, псевдо-злободневность, имитация гласности.
Все это тем более грустно констатировать, что Р. С. Агамирзян — еще из наиболее активных режиссеров, один из немногих, переведших театр на рельсы эксперимента, один из тех, кто пытался достичь каких-либо результатов перестройки. Что же говорить о картине нашей жизни в целом, когда пока что старое сознание с трудом отпускает из своих пут даже таких мастеров, как Агамирзян.
Столичная критика уже отметила тот парадокс, что стоило театрам предоставить полную свободу, как они словно остановились в растерянности. Давно уже, по мнению театроведов Москвы, не было такого неинтересного и бедного открытия сезона.
Ленинград намного обогнал по этому признаку столицу и, судя по всему, не скоро собирается сдавать свои лидирующие в этом бесславном соревновании позиции! Свои жалкие, усердно замалчиваемые позиции!
"Диктатура совести"? — говорят иные снобы. — Устарело! Вчерашний день! Эти вопросы давно решены, в глобальном масштабе!"
"— Да неужели?"
"Так будем мы когда-нибудь работать по-новому или только говорить об обновлении?"


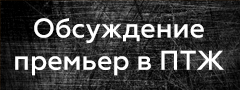







Комментарии (0)