Спектакль К. Райкина "Что наша жизнь? "
… а раньше была поразительная, пробивающая зал искренность, ощущение, что обращаются только к тебе и до тебя одной пытаются донести и смысл, и боль, и чуть смущенную улыбку. На подвижном лице жили глаза…
В "Лицах" четыре года назад еще сохранялся жанр театральной миниатюры: стихия игры, мгновенные переходы и сюжетно законченные сценки.
Теперь не то.
Сразу настораживала программка: Актер — К. Райкин, хореограф — К. Райкин, постановка — К. Райкина, В. Поглазова и А. Морозова, текст песен — Л. Трушкина и К. Райкина. Программка, как вексель: предьявленная, она должна быть обеспечена на сцене золотом.
А потом побежали разноцветные огоньки, труппа лихо задергалась в брейке, под аплодисменты зала наверху явился герой, сбежал вниз, потанцевал, отдышался и пообещал нам идеальный спектакль, возникший в его воображении. И понеслось… "Что наша жизнь"?
У Горького — "Мои университеты", — у Райкина, как видно, дискотека. Со временем центр познания переместился. Побегал, потанцевал, поговорил — так на протяжении трех часов. Да и тексты, прямо скажем, не первосортные. (Автор пьесы — А. Арканов). Жизнь и истина, правда реальная и театральная — все "снимается" лишь по первому слою, сплющивается; из многомерной, мерцающей материя становится неживой и плоской. Высокие понятия сводят к нищете души, сознательно занимаясь адаптацией и обидно предполагая в зрителях внутреннее убожество.
"Что ты все ругаешься?" — говорят мне друзья. — "Ну хотя бы смешно?" Чуть выдержав паузу, профессионально и нагловато, актеры кидают в зал репризы в расчете на хохот. "Мы все воруем понемногу, чего-нибудь и как-нибудь". Каламбур, что и говорить, из удачнейших! Зато классику потревожили, и современность отразили, и мысль доходчива до безобразия. Смешно? Судите сами.
И разгуливает по сцене сумрачный гусар, не проронивший ни слова и мало похожий на Лермонтова, и появляется некто в крылатке, блаженно читающий стихи и смутно напоминающий Пушкина. Да не бросят в меня камень искушенные. Я ведь тоже поняла, что походить на великих людей эти двое должны весьма отдаленно; они символы, знаки и культуры нашей, и традиции, и высокого строя души. И призваны пробуждать в зале гордость за человечество, а вкупе с ними, явленные в сценке "интеллектуального детского сада", Толстой, Эйнштейн, Плисецкая и пр. Только механизмы рождения гордости уж больно просты: вывел на сцену знак — и готово: разгуливает по залу пресловутая гордость, а заодно и духовность возвращается, и память, и связь времен.
Ох, как рьяно насаждает духовность Константин Райкин! Но периодические восклицания "Как жить дальше?" и "Что делать?" превращаются в голую декларацию, а духовность и сомнения Актера не обеспечены средствами театра.
Грешит спектакль и указующими перстами. Не во вдохновенном прозрении вдруг открывшейся истины, но без затей и открытым текстом нам объясняют, что воровать — плохо, а человеком надо быть хорошим. Эдакое карманное издание "Анны Карениной": сюжет и выжимки философской система. Для доказательства разыгрывают очередной комикс, скажем, на тему: истинный талант не продается.
Некий Вильям Шекспир (К. Лавроненко), в дальнейшем просто Вилли, попадает в кафе на перекрестке… жизни. (Куда так многозначительно!) Кстати, там обретаются молчаливый Лермонтов и импульсивный Пушкин, а также персонажи вполне современные: всесильный директор гастронома Федя Расторгуев (В. Шимановский) и иной "крутой" народ. Вилли предлагается переделать трагедию в рок-мюзикл, все остальные хлопоты Федя берет на себя, а гонорар, естественно, пополам. Талант отказывается, Федя недоуменно поводит плечами, и эпизод исчерпан. Наглядно, как в школьном пособии.
Когда речь заходит о бездуховности — звучит 66 сонет Шекспира. То, что нынче стало общим местом, интеллигентским штампом, и чему не вернул Райкин утерянную первозданность. Раз про бездуховность — значит, обязательно 66 сонет, как будто ничего другого его автор не написал!
Когда в кругу озверевшей толпы, падая от ударов, скатываясь по ступеням лестницы, ниже, ниже, поэт все-таки подымается, он читает черни Мандельштама. Раз о судьбе поэта — значит, Мандельштам, по нынешним временам это входит в джентльменский набор. Звучат усиленные микрофоном, прочитанные в сбивчивом дыхании горькие и гордые строки:
"Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе… "
Честное слово, в них достоинства и смысла больше, чем в молодых раскраденных лицах, немыслимых балаганных нарядах и бегущих дискотечных огнях. Но какая же спекуляция: микрофон доносит в зал рваное дыхание человека, только что скатившегося с лестницы. Понятно, что оно будет тяжелым: от физической нагрузки — не от внутреннего волнения актера, читающего удивительные стихи. Однако, счастливо найденная замена попользуется неоднократно. А лучшее во всей сцене — это длинное, прерванное паузами падение, подробное, страшное и мастерски выполненное Райкиным, в котором больше истины — да, да, не смейтесь — чем во всех произнесенных словах.
Впрочем, зачем зря шуметь? Константин Райкин — актер замечательный: темпераментный, стремительный, органичный. И все эти качества, хоть изуродованные, подавленные, все-таки прорываются на сцене. Объясните же мне, почему нельзя было поставить полнокровный нормальный спектакль? По-че-му? То, о чем Райкин хочет поведать миру в весьма сомнительных текстах — все сказано: глубже, и проще, и поэтичнее в высокой драматургии. И думаешь, глядя на сцену, все бы мог сыграть — Шекспира, Гольдони, даже Чехова. А он натужно пытается сплавить в новый жанр принципиально несоединимое, вздергивая упавший ритм огнями, музыкой и судорожными движениями брейка. Актерский дар мгновенного постижения сути вещей, — чему ты принесен в жертву?
Константин Райкин фантастически танцует. Собственно, это даже не танец, а нечто большее: поразительное пластическое владение телом. Прекрасно танцует вся труппа. Слаженно, чисто, с напалмом. Только труппа-то по преимуществу драматическая — не балетная, а это совсем другая профессия. Было бы странно, если б ведущая аэробики вдруг стала читать Мандельштама. Поймите, я не против дискотек: из этого спектакля могло выйти отличное дискотечное шоу. Но перемежать его поисками смысла и духовной опоры, все равно, что смешивать божий дар с яичницей.
О драматических же работах серьезно говорить не приходится. Спектакль откровенно выстроен на Константина Райкина, и в навязчиво центростремительных мизансценах остальным отведена скромная роль кордебалета. Лишь изредка промелькнет выразительная пантомима Л. Тимцуника, да задержит внимание очередной персонаж Л. Нифонтозовой (как правило, характерных), возвращая нас к тем дням, когда на этой сцене безраздельно царила Театральная Миниатюра.
А теперь лирическое отступление о папе. Уверена, что каждый человек любит своего папу. Уверена также, что Райкин-младший не оставляет исключения. Из зала же это выглядят следующим образом.
То ли персонаж, то ли реальный К. Райкин — разделить их не представляется возможным — вспоминает детство, потом включается фонограмма, мама и папа беседуют, и звучит известный на всю страну голос, на котором выросли поколения и который теплом и радостью откликается в сердцах зрителей.
Естественно, это повышает градус эмоционального восприятия. Естественно, это не относится к арсеналу художественных средств. Семейные узы, втянутые на сцену и еще допустимые на творческих вечерах, выглядя нескромно и дурно-вкусно в пространстве спектакля. Тем более, что К. Райкин неоднократно говорил о "шлейфе имени" и о праве работать от себя и за себя.
Однако, "от себя" понято слишком буквально. Цель актерского творчества — создание сценического образа. Но если характера нет, предлагаемых обстоятельств — нет, психофизического состояния — нет, из чего взяться образу? Поневоле приходится К. Райкину "примерять" ситуацию на себя. Актер, страдающий от бездуховности мира — так это я самый и есть; и папа у меня действительно замечательный. А с этим сознанием да на двухтысячный зал — немного нескромно. Константин Райкин еще не той мудрости личность, чтоб позволять себе выход на сцену "от себя": без лицедейства, без перевоплощения; и наблюдать приключения этой души бывает неинтересно.
Впрочем, что зря шуметь? В общем потоке полуэстрадных спектаклей этот не представляет ничего вопиющего. Зал полон, и зал смеется. Тяжеловесные репризы? Ну и что. Неточность сатирических персонажей? Ну и что. Публицистическая острота устарела? Газеты обогнали? Так мы и не вчера его выпустили…
Однако, имеет смысл только гамбургский счет.
Вот они, из поколения сорокалетних: Боярский поет, Райкин танцует. Это знают миллионы. Каждый, как золотоносную жилу, разрабатывает шанс, выданный ему судьбой. Драматический актер и слава, полученная вне Театра — печальная тенденция нынешнего искусства. И все-таки я буду возражать.
Константин Райкин — актер, и театральные обстоятельства его биографии складывались вполне благополучно. А кому многое дано, с того и многое спросится. Например, вот это: стоит ли превращать театр в комиксы?







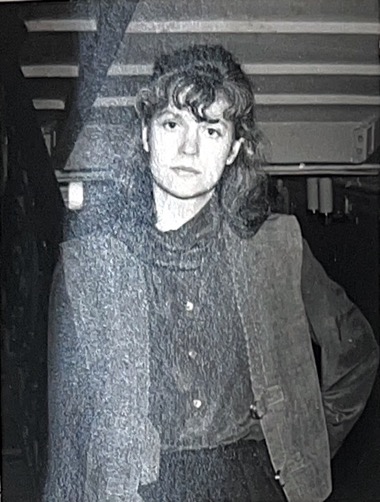



Комментарии (0)