…Звук возникает как бы издалека и длится, постепенно нарастая. Низкое ровное гудение — гул голосов — затягивает, заполняет, погружается куда-то внутрь, глубже и глубже, и вот уже, кажется, исходит из тебя самого. Потом голоса расслаиваются, уходя вверх и вниз, — и звук замирает где-то в вышине.
Актеры, разомкнув круг, медленно расходятся, оставив на авансцене двоих…
Так начинается в Ленинградском Малом драматическом театре спектакль "Повелитель мух". Главный режиссер театра Л. Додин после знаменитой абрамовской трилогии обратился к творчеству английского писателя У. Голдинга. Замысел этот возник несколько лет назад и неслучаен в творчестве Додина. Для его режиссуры характерно обращение к самым нелегким, больным проблемам времени: не публицистическая постановка этих проблем, но стремление исследовать наиважнейшее — то, что сегодня определяет наше бытие и сознание — на глубоком художественном уровне, а это сейчас в нашем театре большая редкость. В то же время этот спектакль открывает новые тенденции в режиссуре Додина.
Роман-притча Голдинга "Повелитель мух", написанный в 50-ые годы, был попыткой осознать причины и предупредить возможность повторения того страшного, что случилось с человечеством в недалеком тогда прошлом. Так возникла своеобразная модель человечества — дети на необитаемом острове.
Голдинг исследует корни зла в человеческой природе. В его романе история человечества как бы начинается сначала /именно потому так важен прекрасный остров, не тронутый цивилизацией, и дети, менее всех зараженные ее болезнями, но, повторяясь в основных своих моментах/, все же идет к страшному концу, потому что зло существует в самом человеке.
В сценической притче Додина борьба добра и зла в человеке неразрывно связана с противостоянием человека и мира. За 30 лет мир неузнаваемо изменился: сегодня он слишком тревожен, слишком пугает, — и это отражается на человеке, обостряет борьбу добра и зла в нем самом. Спектакль Додина — о современном состоянии мира и человека в мире, грозящем катастрофой. Вот почему в нем не акцентирован возраст героев /взрослые актеры играют I4-15летних подростков, только в ролях троих малышей на сцену выходят дети/ и нет прекрасного острова. Мир, каким его моделирует сценограф Д. Боровский, изначально вселяет тревогу.
Темное глубокое пространство освещено ровным холодным светом. Серочерный условный фон, канаты из-под самого потолка лишь отдаленно напоминают реалии романа — скалы, лианы. Кабина разбитого самолета с цифрой ХХ на серебристом боку, обломки бортов /несколько сценических площадок разной формы и высоты/, обгоревшие куски обшивки вокруг, — обстановка разрушения, катастрофы. Мир, утративший красоту и гармонию. Исход XX века…
Переводя в "слова" атмосферу спектакля, постоянно натыкаешься на общий корень: о бры в, взрыв и т. д. Р в ан ы й крайкабинысамолета, разорва н н а я обшивка на полу, само передвижение актеров по сцене /раскачиваясь на канатах, они будут перебираться с одной площадки на другую, карабкаться по задней стене, откуда каждую минуту можно сорваться/, "п р о р ы в ы", "с р ы в ы" в движении действия, — все это рождает чувство ненадежности, непрочности существования на краю.
Действие в спектакле не спешит набирать темп. Двое — Ральф /П. Семак/ и Хрюша /Г. Дитятковский/ — знакомятся, осваиваются в новой обстановке. Ральф плавает — долго, с наслаждением разгребает руками незримую воду, отфыркиваясь от соленых брызг. Какое блаженство! Семак делает это так заразительно, что полностью проникаешься его состоянием и легко принимаешь условности — ни моря, ни берега, актер по пояс погружен в кабину того же разбитого самолета. Но ощущение неестественности, недоверия к самой возможности блаженства среди этих обломков остается в подсознании. Так поначалу и пойдет спектакль на смене, колебании настроений — беззаботного и тревожного — поселяя некую раздвоенность, разброд в душе, который постепенно все больше нарастает.
Наконец двое нашли мегафон — и на крик Ральфа один за другим появляются остальные: близнецы Эрик /С. Власов/ и Сэм /С. Бехтерев/, тощие и смешные, в одинаковых панамах-касках, долговязый угрюмый Роджер /В. Вахарьев/, Уилфред /А. Коваль/, Билл /С. Козырев/, Уолтер /В. Артемов/, малыши Персиваль, Филл, Дхонни /Коля Платонов, Алеша Смирнов, Рустам Аскеров/. С пением молитвы в церковных одеяниях выходит хор во главе с Джеком Меридью /В. Осипчук/: Роберт /М. Самочко/, Морис /И. Иванов/, Саймон /И. Скляр/, Стенли /Н. Павлов/. Не сразу стихают шум и неразбериха первого знакомства.
Их доставили сюда на самолете — все прочее остается неясным. Только Хрюша вспоминает об атомной бомбе и о том, что кроме них, быть может, все погибли. Остальные же ведут себя как ни в чем не бывало, и их поведение с самого начала как-то не соответствует окружающей обстановке: восхищаются красотами острова, а вокруг одни обугленные обломки. Невольно поддаешься
их радости и беспечности, но тревога не дает забыть о себе.
Она повисает в пространстве зыбкой мелодией — колебанием струн — когда, забравшись наверх, восторженным взглядом окидывая остров, застывают над громадной бездной Ральф, Джек и Саймон.
Она появляется вновь, когда, спускаясь вниз, трое поймали поросенка, и рука Джека с занесенным ножом застывает над живым розовым тельцем. В первый раз доходит: чтобы добывать мясо в пищу, нужно убивать живое. Но Джек, не решившись пока, отпустил поросенка — и мальчишки снова веселы и беспечны.
Внизу их общий восторг и ликование — перед открывшейся возможностью свободы, игры, приключений — достигают пика. Уверенная речь Ральфа — о костре, о спасении — тонет в бурных аплодисментах, и, не дослушав, все бросаются собирать топливо.
Костер. В притче это одно из важнейших понятий-символов. Пока горит костер, его дым виден с моря, где в любую минуту может появиться корабль. Костер-спасение.
И вот он зажжен: струйка дыма поднимается из той же кабины самолета, сцена залита зеленоватым светом — как красиво, как хорошо! Мальчишки у костра запевают веселую рождественскую песню: "В ночь святого рождества Звезды ярко светят…", -и на миг появляется иллюзия праздника, тепла и уюта.
Но уже в следующее мгновение все меняется: огнем прихватило обшивку, дым гуляет по острову. И пропал куда-то маленький Джонни.
Старшие кидаются искать, окликая растерянными голосами — а дым все поднимается за их спинами, и нарастает глухой тревожный гул. Силуэт малыша, высвеченный в пространстве как бы неровным отблеском пламени, и детский голос, серьезно и строго пропевший слова рождественской песни, остались в памяти неумолимым упреком и тревожным предупреждением. Радости и веселью пришел конец.
Теперь уже не сменой настроений будет развиваться действие: в наступившем временном затишье подспудно и неуклонно назревает новый взрыв.
Вот Джек, готовясь к охоте, сделал себе маску, вымазав серой пылью лицо. Вокруг него собираются другие — и уже все мажут лица, на глазах меняясь — маска обезличивает и раскрепощает. И даже дежурные, бросив костер, уходят с охотниками.
…Оставшиеся на берегу увидели дым на горизонте, замерли, не веря глазам: то возникая, то исчезая, всколыхнув пространство перебором струн, вдали забрезжила надежда. Корабль! Закричали, замахали руками — и бросились вслед за Ральфом наверх, к костру. Срывающаяся, тревожная и прекрасная мелодия скрипки взмыла вверх — в надежде, к спасению — и оборвалась, растаяла в пространстве. Костер давно погас. Спасение не состоялось.
Нам не дадут опомниться, перевести дух: в наступившей тишине уже слышится знакомое протяжное пение. И страшно доходят слова:
"Пребудь со мной — уж свет сменился мглой. Густеет тьма, господь, пребудь со мной…"
Сразу всплывает в памяти первый выход хора: симпатичные цивилизованные мальчики, прилежно вытягивающие ту же мелодию. Но то, что мы видим в следующий миг, поражает жутким контрастом. Процессия охотников — одинаковые серые лица-маски, возбужденно блестящие глаза — выносит мясо убитой свиньи. Джек движется во главе, выставив перед собой измазанные кровью руки. И происходит первое серьезное столкновение Ральфа и Джека.
Костер и охота. Спасение, возвращение в человеческий мир и обезличение, одичание, озверение через убийство. Никто из них не понимает, что выбор именно в этом, что охота изменила их, разбудив жестокое, грубо-животное.
Разнузданность, чувство какой-то вседозволенности, наслаждения от превосходства над слабым появилось в поведении Джека. Не в силах противостоять Ральфу, он вымещает обиду на Хрюше: бьет его, издевательски передразнивает. Охота дала ему силу, власть — и он упивается этой властью, когда делит мясо: один за другим к нему подходят за вожделенным куском. И вот он уже показывает — на Роберте! — как выслеживали свинью, а все легко включаются в игру — танец охотников. "По черепушке ее-о-о… по пятачку-уу..", -они уже не задумываясь повторяют одинаковые движения, следуя командам Джека: размеренный ритм ритуального танца затягивает, наполняется все большей силой, набирает темп и — взрывается.
"Бей свинью! Бей свинью!" — маршируют охотники, окружив и все больше наступая на Роберта. Музыка взвывает сиренами — и марш обезумевших подростков поражает мгновенной узнаваемостью: зримый образ фашизма сразу всплывает в сознании. Дикий, животный визг Роберта, прорвавшего кольцо, — и останавливается зашедшая слишком далеко игра. На первый раз все обошлось. Взрыв опять сменился временным затишьем.
В этих тянущихся паузах-промежутках между взрывами все больше сгущается тревожная атмосфера, меняется общее настроение, меняются их представления о мире. Если поначалу он казался прекрасным, обещал только хорошее, то теперь все больше внушает страх. Им бы разобраться, понять, что происходит, а они заводят разговор о звере.
Зверь… Сначала о нем говорил маленький Джонни, которого напугало что-то в темноте, — ему никто не верил. Но Джонни пропал — и о звере стали думать все. Меняются они сами — опыт охоты и "игры" не прошел даром, — и не случайно нарастает в них страх и тревога. Но, не в силах этого понять, они свой страх воплощают в несуществующем звере. Тревога и разброд проникают все глубже и глубже, и каждое такое затишье-погружение чревато новым взрывом. В этих взрывах теперь уже неизменно в центре оказывается Джек.
Вон стремительно выходит на середину. "Мы сильные, мы охотники. Если зверь этот и есть, мы его поймаем и будем бить. Бить! Бить!!" — крики Джека эхом отдаются в тишине, и он сам вдруг пугается, может быть, на секунду ужаснувшись чему-то страшному в самом себе. Из сильного сразу став беспомощным, мягко опускаясь на колени, Джек протягивает руки к небу, словно ища там поддержки и моля о прощении: "Когда лишусь опоры я земной, Оплот бессильных, ты пребудь со мной…"
Слабый голос не сразу выстраивает знакомый мотив, и эта протяжная, с какими-то расплывчатыми "краями" мелодия уже не дает былой веры и силы. Джек, все больше сближая "края", стремясь к спасительной середине, неожиданно находит иной ритм, простой и четкий — и молитва вдруг превращается в марш. Голос крепнет, тело из мягкого, бесформенного становится сильным и упругим, рука взмывает вверх — и что-то знакомое опять мелькает в этом взмахе руки. Давая эти моменты мгновенного узнавания /их немного в спектакле/, режиссер не акцентирует их, исследуя суть явления, его корни.
И вот уже все включаются в ритм марша и уходят вслед за Джеком, оставив растерянных Ральфа, Хрюшу и Саймона. За сценой марш продолжается, слова молитвы и клич охотников "Зверя — бей" сменяют друг друга. Но там никто уже не думает о смысле, суть происходящего в ином: когда все вместе отдаются общему ритму, это дает иллюзию силы и забвения страха.
Мы не раз увидим в спектакле, как Джек /а за ним — все остальные/ от молитвы, которая не спасет, неизменно переходит к ритуальному танцу. Молитва и танец охотников обозначат два полюса, две крайние точки, между которыми будет метаться душа, взмывая вверх и срываясь вниз. Кажется, между ними — громадное расстояние, бездна, — но как стремительны эти переходы! Так образуется неровный, тревожный ритм спектакля. Здесь не мощные взлеты и падения — от громадных человеческих усилий, физических й духовных, — но долгие "погружения", "прорывы" и "срывы".
"Повелитель мух" воздействует на зрителя на всех уровнях: физиологическом, эмоционально-психологическом, на уровне сознания. Это делает спектакль непривычным, нетрадиционным для нашей сцены, вызывающим противоречивые суждения критиков — при том, что большинство из них оценивает этот спектакль как безусловно незаурядное художественное явление. Мы привыкли к тому, что со сцены обращаются в основном к чувствам и сознанию, и потому многих настораживает именно первый, "низкий" уровень воздействия: высказываются опасения, что нож над живым поросенком, настоящее мясо, которое Джек режет на сцене и швыряет в лицо Хрюше, свиная голова — могут вызвать у сидящих в зрительном зале нездоровые инстинкты. Но театр вправе воздействовать на всего человека, в котором неразрывны дух и плоть. Главное — ради чего это делается, что при этом открывается, какова иерархия ценностей. Главное — гуманистическая позиция художника.
Физиологический уровень воздействия /это не только натуралистические элементы, но и звук, ритм танца, который физически затягивает/ играет здесь очень важную роль и занимает в системе художественного целого свое, строго определенное режиссером место. Нас, зрителей, заставляют в себе самих открыть, не умозрительно, собственную природу и корни зла, которые в ней заложены, чтобы возникла потребность преодоления этого зла. Когда на сцене Джек бьет Хрюшу — это не только вызывает жалость к беззащитному, но и заставляет ощутить животное начало страха, ужас унижения физическим насилием. И Джек, который сам находил наше сочувствие, когда был беспомощен и слаб, здесь вызывает ужас и отвращение перед тем, на что способен человек и во что превращает его творимое им зло. Режиссер намеренно затягивает мизансцену — Джек кривляется, передразнивая Хрюшу, а все словно остолбенели вокруг — фиксируя наше отношение к безобразному, нечеловеческому его облику и поведению.
Так сочетается в режиссуре максимальное вовлечение, "погружение" зрителей в происходящее на сцене /средствами, выходящими за пределы психологического театра/ — и отстранение, оценка происходящего. Искусство XX века /в театре Арто, Брехт, Брук/, исследуя человека в его отношениях с миром, часто выходит за рамки психологизма — это давно отмечают искусствоведы. Не случайно и обращение театра к мифу, притче, легенде, ритуалу. "Повелитель мух" Додина воспринимается в русле этих исканий.
Жанровая природа нового спектакля Додина сложна. Обозначив ее как роман, режиссер все-таки ставит в большей степени притчу, хотя и не отказывается от психологизма.
Смысловую нагрузку притчи в спектакле Додина несет сочетание разных сценических языков — и порой язык музыки, ритма, пластики значим более, чем язык слова. Это, конечно, не произвольное желание, но глубоко продуманное решение режиссера. Чтобы не абстрактно, не отстраненно представить в театре борьбу духовного и грубо-животного в человеке, нужно показать на сцене жизнь и тела, и духа.
Сочетание психологизма и притчевой обобщенности — явлений разнородных по существу — не всегда органично в спектакле; то же можно сказать и о сочетании разных сценических языков. Это ни в коем случае не "разнобой", не разделение внутреннего и внешнего — но именно не всегда достигаемая органичность. Может быть, это соответствует в какой-то мере той дисгармонии в мире и в человеке, которую отражает спектакль. Но многое здесь зависело и от актерских возможностей. Актеры работают с максимальной самоотдачей, какую редко сейчас встретишь в ленинградских театрах, — и они немало сумели сделать в воплощении режиссерского замысла. Но задачи актеров в этом спектакле превышают, на мой взгляд, достигнутый на сегодняшний день уровень актерских возможностей, уровень развития психофизической природы актеров. Наверное, нужна долгая школа поисков "внесловесных" средств сценической выразительности — подобная той, что проходили актеры П. Брука.
За два-три месяца со дня премьеры спектакль прошел огромный путь и сейчас еще не останавливается в своем развитии — это путь ко все большей цельности, стройности, органичности сочетания разных сценических языков, ко все большей художественной глубине и совершенству. С этой позиции нужно сейчас рассматривать и работу актеров.
В центре внимания Голдинга и вслед за ними режиссера спектакля — четыре главных героя: Ральф, Джек, Хрюша, Саймон. Каждый из них воплощает в притче одну из важнейших ролей в человеческом обществе, один из главных способов понимания мира.
Ральф и Джек — два антипода руководителей, за которыми идут все остальные. Если Ральф несет в себе ответственность за других, справедливую силу, которая всегда на стороне добра и созидания в противовес разрушению и злу, то Джек — стремление к максимальному господству над другими любыми средствами, что неизменно ведет к торжеству зла. Хрюша и Саймон соотносятся по другому принципу. Хрюша объясняет мир умом, рассудком, Саймон же воплощает в себе веру и любовь к людям. Оба они понимают больше других, но оба оказываются беззащитны перед злом: Хрюша слишком неприспособлен к жизни /без очков ничего не "видит"/, Саймон же от любви к другим забывает об опасности, которая грозит ему самому. Перед актерами стояла нелегкая задача: в образе живого человека сыграть ту роль, которую отводит этому герою притча.
Несомненным успехом можно считать работу В. Осипчука. Джек в его исполнении не родился злодеем: ему знакома и мальчишеская радость, и слезы от несправедливой обиды — все это вызывает наше сочувствие. Джек — Осипчук слаб, слабее Ральфа — и телом, и духом. И при этом в нем, самолюбивом и властном, как ни в ком живет потребность быть сильным. В самом себе он не чувствует этой силы, и ему постоянно необходимо утверждение вовне — отсюда и стремление к власти. У Джека — Осипчука это выражается во всем: в движениях, жестах, звучании голоса, словах и поступках. Для его пластики с самого начала характерна какая-то неустойчивость поз, тело словно не имеет внутренней оси, опоры. Раскованность, развязность Джека нарастают по мере обретения силы, власти, но, когда эта сила теряется, раскованные движения становятся колеблющимися, шатающимися, и в пластике усиливается тяга к твердой опоре. Джек не раз в спектакле порывается к добру, но не хватает ему мужества и силы духа — и он неуклонно поворачивает на путь зла.
Джек как никто выражает общее состояние всех — не случайно за ним идут остальные. Самое нелегкое открытие — когда в жизни-существовании на сцене Осипчука — Джека узнается вдруг что-то близкое всем нам, что-то общее в нашем сегодняшнем состоянии, состоянии человека в очень тревожном мире, когда так часто вдруг теряется вера в смысл всего происходящего, в смысл собственного существования, и, кажется, почва уходит из-под ног, и так трудно снова обрести опору. Путь Джека ужасает и предупреждает.
Ральфа играет П. Семак. Физически сильный, крепко сложенный, он сумел воплотить главное в своем герое — силу, уверенность, справедливость. Доверие к другим и ответственность, первоначальная наивность и все больший груз опыта, постепенно появляющаяся растерянность — все это есть в Ральфе — Семаке. Но пластике его нужна большая свобода, раскованность, и тогда силу и смелость Ральфа можно будет выявить и широкими свободными движениями, отсутствием /в отличие от Джека/ страха "краев", который постепенно может появляться. И тогда убедительнее будет самое важное: как сильный теряет опору.
Хрюша — Дитятковский — слабый телом, неуклюжий, больной астмой, с плохим зрением — с самого начала становится объектом насмешек и унижений. Он даже говорит как-то торопливо и сбивчиво, заранее обиженно: зная, что его никто не слушает. Хрюшины горькие истины вызывают все большее озлобление Джека — и Джека он боится больше любого зверя. На сцене он всегда рядом с Ральфом — Ральф ему единственная поддержка. И когда Ральф уходит за всеми — уходит и Хрюша.
Саймон — Скляр — невысокий, несильный телом, тихий и застенчивый. "И если пташек любит бог, он любит и меня" — в этой его песне-молитве есть что-то от наивной и святой веры маленьких детей в свое бессмертие. Вера в доброе и хорошее, любовь к миру и к людям не внушены ему откуда-то извне, но составляют самую суть его, — и это проявляется во всем его негромком существовании на сцене: молча поднимает Хрюшины упавшие очки, отдает ему свой кусок мяса. Глаза его говорят больше слов, слова же Саймон произносит редко, только чтобы сказать самое важное — как, например, отчаявшемуся Ральфу: "Ты еще вернешься, я чувствую". Саймон, в котором мудрость чувства окажется дальновиднее Хрюшиного ума, единственный начнет понимать, что происходит, попытается противостоять злу.
В этом спектакле не меньше, чем поведение главных героев, важно общее состояние всех. Сценическая притча Додина моделирует наиболее общие моменты сегодняшних отношений человека и мира.
Застрявший между скал костюм пилота напугает в темноте близнецов, и они разбудят всех среди ночи: "Мы видели зверя!" Известие нависнет тяжестью, придавит страхом. А чем сильнее страх, тем отчаяннее желание от него избавиться — и люди готовы поверить в самые очевидные иллюзии. Ральф повторяет одно: костер, спасение, — но в его голосе нет уже былой уверенности. И все потянулись к Джеку, когда он нашел простое решение: "Зверя надо забыть!"
Забыть, не думать — так легче, — и вот опять всем весело. И как это напоминает повторяющуюся в разных масштабах в XX веке ситуацию, когда очередной авантюрист выкрикивает, как Джек в спектакле: "Кто пойдет в мое племя? Я накормлю вас, защищу вас от зверя", -и толпы запуганных мифическим зверем не задумываясь идут за ним на все.
Одобрительные возгласы встречают новое предложение Джека: оставлять часть добычи зверю, чтоб он их не трогал. Веков историй как не бывало — так близко все и неизменно в человеческой душе. И подвешенная голова свиньи — Повелитель мух, символ дьявола — уже ухмыляется сверху.
Но реальность быстро разрушает слишком шаткие иллюзии. Вдали гремит гром — и снова возвращается страх. И тогда с небывалой силой, страстью прозвучит в спектакле последняя молитва — удивительной красоты хорал.
Джек начинает: "Дай, вера, силы мне", -и вступают все остальные, сливая разные голоса, на разные лады повторяя одни и те же слова и тем многократно усиливая одно общее страстное желание:
"Я хочу верить
В правду, добро и свет.
Мудрым и чистым,
Сильным быть
И делать добро другим.
Кто верит, тот силен… "
И рванулась душа, всегда готовая поверить в добро — только было бы на что опереться этой вере. Вот мы — непохожие, по-разному несовершенные, со множеством пороков и недостатков — все хотим одного: обрести силу в вере.
Но вера не находит опоры. Воцарившуюся ненадолго тишину и просветление уже в следующий миг потрясает новый страшный удар — то ли гром, то ли грохот надвигающейся катастрофы. И не убежать, не укрыться — где теперь искать спасения? "Танцевать! Наш танец!" — кричит Джек.
Что происходит с душой, когда рушится вера — "в правду, добро и свет"? Куда, в какую бездну срывается она, где ищет и в чем находит поддержку?
Когда теряется надежда, побеждает страх — сегодня этот мотив романа Голдинга воспринимается гораздо более остро, чем 30 лет назад. Именно эту линию Л. Додин углубил и развил. В его сценической притче важнейшим понятием, которого не было у Голдинга, становится вера в добро. Человек, потерявший веру в добро, способен на самое страшное — это одно из самых глубоких художественных открытий в спектакле.
И начинает расшатываться пустое черное пространство, тяжелыми маятниками раскачиваются в разные стороны канаты, измеряя, раздвигая его — шире, еще шире… Но нет меры, нет границ у этой громадной бездны. "В ночь святого рождества…" -голос за сценой знакомыми словами выводит какую-то уже неведомую, жуткую своей бесформенностью мелодию — и точно погружаешься в пропасть: глубже, глубже, а опоры все нет, дно расплывается и уходит из-под ног. Страшно!
И вот уже находят меру, находят ритм, "сужают" расстояние между краями — до минимума, до шагов ритуального танца: влево-вправо-вперед, влевовправо-вперед. И отдаются этим движениям — один за другим, все вместе. Чтобы душа забыла себя /и этот страх, эту бездну/, застыла в забвении.
Что же происходит в этом мире с людьми? Почему теряют они веру в его добро и справедливость?
Ситуация, когда надвигается гроза и люди вжимают головы в плечи — кто-то мечется, кто-то с испуганным, почти плачущим лицом машинально начинает двигаться в ритме танца, — при всей ее притчевой обобщенности одна из самых узнаваемых, сегодняшних. В нашем мире, который постоянно чем-то пугает и грозит, в котором творится безумие, порой не укладывающееся в сознании, очень трудно удержаться вере в добро. Но режиссер не оправдывает людей, не перекладывает на мир вину за творимое ими зло. Он лишь дает нам понять очень важное: сегодняшний мир как никогда требует от человека мужества, ответственности за происходящее. А эти подростки словно не видят реальности, выдумывая мир — то слишком прекрасный, то чересчур тревожный и пугающий. Не видя истинной опасности, боясь мифического зверя и грозящего неба, они теряют веру в добро — и уходят от страха в забвение, в общий ритм танца дикарей. И когда они забываются в этом ритме, ни о чем уже не думая, не осознавая самих себя и происходящего вокруг, — отступает разум и побеждает "зверь". Крушением веры в добро начинается в спектакле страшный поворот, который неотвратимо поведет к трагическим событиям.
Саймон остается один, когда за Джеком уходят все. И только он начинает понимать, что истинная опасность — в них самих.
"Что самое нечистое на свете?" — "Душа". Голос — мерзкий, вкрадчивый, жуткий, заполняющий собой все, вторит голосу Саймона, все больше отделяясь от него: "Глупый маленький мальчик… Никто тебе не поможет, кроме меня… А я — зверь… Я часть тебя самого…" Повелитель мух. Но Саймон сбрасывает свиную голову — и идет к напугавшему всех зверю. И находит костюм пилота…
В сцене с Повелителем мух органичность существования пока не найдена актером. У Саймона здесь должен происходить перелом в сознании. "Все омерзительно", -это ведь для него с его верой и любовью ко всему страшное открытие. Когда Саймон говорит: "Я — Повелитель мух", -он должен впервые, может быть, почувствовать свое тело, плоть в дисгармонии, противоречии с духом, открыть "зверя" в самом себе /чтобы мы увидели это из зала/. Потом же важно сыграть преодоление этой дисгармонии, преодоление духом — страха, омерзения. А Саймон-Скляр остается здесь таким же, каким был, он лишь произносит слова — медленно, как бы осмысляя. На смысловом только уровне — умом — это и воспринимается, не становясь подлинным открытием.
…"Никакого зверя нет!" -Саймон, сбросив нелегкий груз страха, от радости забыв о своем недавнем нелегком открытии, спешит вниз, обрадовать остальных.
Но там, внизу, уже произошел необратимый поворот. Вот снова приближается тяжелый ритм танца — из темноты появляется цепочка… Не люди, а какая-то неразделимая масса тупо-механически движется в однообразном покачивании. Они уже ничего не понимают и не различают вокруг — Саймона принимают за зверя, и он, оказавшись в кругу, становится их первой жертвой.
…Саймон возникнет в последний раз в слабом луче света, оставив в памяти свою песню-молитву — "Бог любит маленьких детей, он любит и меня", -и пропадет, исчезнет в темноте…
После этого ничего уже не изменит позднее прозрение Ральфа и Хрюши. Дикари похищают Хрюшины очки — зажигательные стекла для костра — и теперь, когда огонь в их руках, уже нет надежды на спасение. Попытка Ральфа и Хрюши обратиться к ним с разумной речью кончается новой трагедией: Роджер убивает Хрюшу. И рядом с фигурой убийцы-Роджера блекнет мечущийся, неуверенный в себе Джек. Угрюмость, неразвитость натуры — больше ничем Роджер не выделялся сначала — выросли теперь в тупую страшную силу, убивающую без раздумий и колебаний.
После убийства Саймона, когда кривая действия стремительно и неостановимо покатилась вниз, нас уже не затягивают в ритм ритуального танца, не "погружают" в состояние дикарей, изнутри объясняя их поведение, открывая возможности зла в нас самих. Теперь, когда зло торжествует, отношение к нему однозначно, и все больше возрастает в режиссуре момент отстранения, взгляда сверху на происходящее. Если песня Саймона после его убийства прозвучала в темноте, завершая собой сцену, то голос убитого Хрюши -"В жизни все научно. Когда кончится война, мы на Марс летать будем", -прервет сцену волей режиссера в тот момент, когда по логике действия она остановится не может, когда ни у кого из них уже нет времени осознать происходящее.
Нарастает ровное гудение. Оно не случайно повторяется в спектакле трижды: в начале, в сцене с Повелителем мух и в финале. Звук этот ассоциируется с гудением самолета или роя мух, но самое главное — он погружается вглубь тебя и действует на какие-то внутренние физиологические процессы, заставляя ощутить животное начало своей собственной природы, которое само по себе есть не добро или зло, но какая-то темная бессознательная сила, могущая стать страшной силой зла, если ее освободить от начала духовного. В сцене с Повелителем мух происходило открытие и осознание этого животного начала — и в финале нарастающий звук уже становится знаком открытого, символом победившего в человеке зверя. Охотясь "на Ральфа", дикари поджигают остров — место для жизни, почву под своими ногами — и, значит, самих себя.
…Гул тревожных ударов, поднимающийся дым — и вдруг все мгновенно остановилось, стало темно и тихо. Неяркий луч света пересек сцену, и спокойный голос откуда-то сверху произнес: "Здравствуйте. Мы увидели ваш дым. У вас что здесь — война?"
Высвеченные силуэты дикарей, распятые на фоне черных скал, застыли над бездной… Что это — долгожданное спасение или чей-то несбывшийся сон? Остановка на краю пропасти, которой могло не быть…
Надолго запомнится, как они плачут в финале, особенно Джек: мучительно искаженное лицо-маска, искривляющийся в рыдании, в страшных гримасах рот. Отчаяние, боль, раскаяние, потрясение…
Через сострадание и жалость к ним всем, через ужас перед тем страшным, что с ними произошло, через потрясение, которое только и способно, наверное, что-то в человеке изменить, — спектакль вел нас к катарсису в финале этой трагической притчи.
Мир оставляет людям все меньше возможности для осознанного выбора — спасение или гибель. Эта возможность есть, пока разум не подавлен страхом, пока человек не утратил веру в добро. Но сегодняшняя жестокая реальность легко разрушит эту веру, если она не будет опираться на подлинное знание правды — о себе, о мире. Эта правда сегодня необходима как никогда и как никогда опасны иллюзии.
Л. Додину в "Повелителе мух" присуще трагическое видение мира — а оно выше и истиннее крайностей оптимизма и пессимизма.







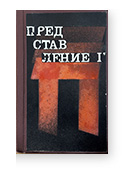


Комментарии (0)