Когда этот спектакль подходит к концу, испытываешь почти физическое облегчение. "Повелитель мух", поставленный Л. Додиным в Малом драматическом театре, не относится к числу постановок, которые смотрятся со все возрастающим удовольствием, возбуждая приятно будоражащее волнение. Он так изматывает, что поначалу не хочется ни вспоминать, ни размышлять об увиденном. Но, преодолевая сопротивление, которое оказывает чувство самосохранения, "Повелитель" то и дело напоминает о себе. Отделаться от сильных и чрезвычайно отчетливых всплываний невозможно. И почти против воли мысленно вновь и вновь возвращаешься к спектаклю.
В эпоху охватившей театр недостаточности чувств Додин ставит трагедию, обращенную к самой больной, неразрешимой и страшной проблеме времени. К проблеме, разговор о которой чаще всего оставляет тягостное ощущение бессмысленности. Преодолеть это ощущение нелегко.
Казалось бы, природа романа У. Голдинга, по которому поставлен спектакль МДТ, влекла к созданию зрелища рассудочно спокойного в своей философской созерцательности. В рациональной, умозрительной структуре притчи некоторая бесстрастность констатации и отстраненность мудрого и всепонимающего авторского взгляда неизбежны. Но в театральном прочтении нарочито схематичные персонажи Голдинга не могли оставаться лишь знаками шифра, за которым легко угадывается основная идея, и когда они обрели живую плоть, их история, не теряя своего философского смысла, из абстрактно-отвлеченной превратилась в конкретную, реальную, осязаемую. Ощущение "взгляда со стороны", а точнее, сверху, ушло из спектакля. Связь зрителей и героев, неразумных детей человеческих, становится очевидной, и потому особенно страшна происходящая трагедия, и потому таким пронзительным оказывается рассудочно-отстраненное сочувствие, которое испытывал к своим персонажам Голдинг.
…Они тихо и сосредоточенно выходят на сцену, и, встав в круг, начинают монотонное гуденье. Лиц их не видно, но звук голосов все нарастает и нарастает, и слушать это уже мучительно, почти невыносимо. Отзвуки того, что должно произойти, постепенно наполняют их хор, и в нем слышится уже не равномерный гул моторов самолета, но крик испуга и отчаянья, и торжественная скорбь реквиема, и тихая печаль. Но вот голоса смолкают, медленно сходя на нет, и они разбредаются по своему острову…
Обгоревшие части разрушенного самолета, обрывки канатов, какое-то грязное тряпье — все серое, бесцветное, неприглядное. Жалкие остатки цивилизации в беспорядке валяются на сцене. А на заднем плане — то ли мрачные, будто пеплом присыпанные скалы, то ли далекие силуэты обуглившихся стен, разрушенных городов. Гибнущего от соприкосновения с человеком земного рая, мира девственной, нетронутой, щедрой природы, в который попадают герои романа, в спектакле нет. Изуродованный, неуютный остров оказывается последним пристанищем детей, чудом уцелевших в огне мировой катастрофы.
И с их гибелью уйдет, быть может, последняя жизнь, и вместе с островом кончится мироздание. Додин, который ставит свой спектакль тридцать лет спустя после того, как был написан роман Голдинга, предельно ужесточает ситуацию, стремясь приблизить ее к современному состоянию мира. Для этого ему понадобился тип сценографического решения, отличный от того, который использовался в предыдущих спектаклях /"Повелителя мух" оформлял Д. Боровский, художник, с которым Додин раньше не работал/. Но сценография в "Повелителе" не только создает своеобразную модель мира. Зрительный образ здесь необычайно эмоционален. Как только люди входят в зал, тоскливогнетущая, тревожная атмосфера сразу наваливается на них.
И с первой минуты действия ощущение беды, нависшей над островом опасности все нарастает. Этому способствует и удивительно гармоничная и выразительная звуковая партитура спектакля. Создается впечатление, что слова раздаются в абсолютной тишине, хотя в зале, как всегда, покашливают и скрипят стульями. Но все же кажется, что все звуки мира замолкли, и теперь огромное пустое пространство напряженно вслушивается в то, что происходит в последнем людском приюте. По-особому значительные и отчетливо произнесенные слова, и многократно повторенный эхом грохот обшивки самолета, на который с размаху прыгают мальчики, и резкий, усиленный мегафоном крик, и ангельские голоса церковного хора за сценой — все сливается в одну нервную, прерывистую мелодию. Опасность заполняет собой все сценическое пространство. Но очень скоро начинаешь чувствовать, что таится она в самих героях.
Услышав призыв Ральфа, они появляются внезапно, словно из-под земли вырастают, и каждый выкрикивает свое имя — все, что осталось им от прошлой жизни. И еще — последний знак "взрослого мира", помятый мегафон, за который они будут хвататься, как утопающий цепляется за соломинку. Вроде бы в том, как ведут себя эти славные симпатичные мальчики, пока еще нет ничего пугающего. Конечно, они по-детски грубоваты, и с неповоротливым очкариком Хрюшей не слишком-то вежливы, но в их возрасте это так естественно. И даже рослый, широкоплечий и в то же время по-детски простодушный Ральф /П. Семак/, которого ребята избирают "главным", и староста церковного хора Джек Меридью /В. Осипчук/, уже готовые стать врагами и соперниками, все-таки улыбнутся и пожмут друг другу руки. Но настораживающая истерическая злобность нет-нет да и проскользнет в голосе обаятельного, задорно поблескивающего глазами Джека, и странная тень то и дело искажает его лицо. И самый маленький мальчик, почувствовав, что в их толпе присутствует еще некто, незримый и страшный, все твердит и твердит о каком-го звере…
Спектакль можно было бы строить на контрасте между наивной беззаботностью ребят, воодушевленных возможностью повторить подвиги Робинзона Крузо и героев "Кораллового острова", и тем губительным буйством жестокости, которое вскоре охватывает этих молодых зверей. Додина больше привлекает единство эмоциональной атмосферы. Судя по тому, как изменялся спектакль за свою пока еще недолгую жизнь, режиссер настойчиво изгонял из первых сцен настроение ничего не подозревающей детской радости. Политика изображать "детскость" вела бы к неестественности — ведь большинству из занятых в спектакле актеров под тридцать. Сыграть тот возраст, который указан у Голдинга / старшему из ребят — двенадцать, младшему — шесть/, они не в состоянии. Может быть, имело смысл поставить "Повелителя" иначе — в традиционной системе травести, сосредоточив внимание на противоречии между юной, хрупкой, нежной внешностью героев и притаившейся в них разрушительной жестокостью? Но даже если не учитывать ощущение фальши, которое почти всегда вызывают наряженные в короткие штанишки немолодые женщины, тот синтез между конкретным и общечеловеческим, который достигнут в спектакле Додина, был бы разрушен. Слишком достоверное изображение психологии "трудного возраста" легко оборачивается сведением символического содержания притчи к бытовой ситуации. В лучшем, идеальном, в практически недостижимом случае может получиться вариант "Чучела" — но тогда скопление ужасов будет казаться чрезмерным.
Однако в "Повелителе" Малого драматического театра актеры вовсе не существуют вне возраста — это придало бы образам ненужную абстрактность. Им удается, внешне детей не изображая, передать детское состояние души. Когда пишешь о "детской душе", на ум сразу приходят такие определения, как чистая, восприимчивая, ранимая, незащищенная и т. д. В применении к спектаклю выражение "детское сознание" приобретает несколько иной смысл. Детское — значит зачаточное, недоразвитое, не умеющее отдавать себе отчет в своих душевных движениях, лишенное внутреннего самоконтроля. Персонажи "Повелителя мух" — дети, как дети все мы — люди, неразумные и заблудшие, не внемлющие голосу рассудка, и по недомыслию могущие погубить себя. И как все мы, эти мальчики беззащитны перед самими собой.
Темные силы бушуют в этих крепких телах, опасные силы, жадно ищущие выхода. Существование молодой здоровой плоти в спектакле дается с осязаемой конкретностью. Вот Джек, Ральф и тихий, застенчивый Саймон /И. Скляр/ отправляются путешествовать, стремясь изведать этот дивный остров, который стал их владением. Они перебираются через ров, лезут на скалы — перепрыгивают с одной части декорации на другую, карабкаются на заднюю стену. Условный прием требует тем не менее вполне безусловного напряжения сил, работы мышц. В подобной достоверности физического проживания — одна из причин необычайно сильного воздействия спектакля.
По замечанию А. Кравцовой, "Повелитель мух" силен не текстом, но особой эмоциональной стихией, царящей на сцене"1 Стихией, творимой самыми разнообразными средствами, подчас такими, которые принято считать несценическими. Живой поросенок, с пронзительным визгом бьющийся в руках мальчиков — не лежит ли подобный прием, как говорится, вне пределов искусства? Оправдать появление животных на сцене трудно — нередко они разрушают иллюзию, в неподходящий момент напоминая об условиях игры. /Так это, к примеру, произошло в спектакле "Муму". Когда Герасим "топит" собачку — осторожно опускает ее в лок посреди сцены, невольно представляешь, как освободившаяся наконец "артистка" сейчас радостно бросится к своим хозяевам/. Не так в "Повелителе". Здесь, глядя как маленькая свинка, такая розовая, беззащитная, с симпатичной испуганной мордашкой беспомощно бьется в руках Ральфа, а Джек Меридью уже достал нож и руки его скользят по ее мягкой шкурке, хочешь, подобно Саймону, отвернуться и закрыть глаза. И когда Джек вдруг отпускает поросенка, по залу проносится вздох облегчения. Пощадил… Пока пощадил. Такой эффект достигается не только потому, что градус напряжения чрезвычайно высок и люди с первой минуты спектакля невольно ждут чего-то страшного. Натуралистические приемы встречаются в спектаклях Додина нередко, но поросенок в "Повелителе" существует по иным законам. Здесь сверхнатурализм оборачивается сверхусловностью, органично включенной в систему символов. Поросенок — не просто несчастное животное, не могущее не возбуждать нашего участия, прежде всего это воплощение трепетной и незащищенной жизни. Жизни, которой грозит гибель.
Мысль о возможности безнаказанно пролить кровь уже отравила душу Джека. Вскоре она полностью овладеет им, вытравив все остальные чувства. И его мечте суждено исполниться. В каком-то безумном угаре, все еще опьяненные травлей, выволакивают мальчики на сцену тушу убитой свиньи. А впереди — хмельной от впервые пролитой крови, захлебывающийся в нечеловеческом восторге Джек Меридью. Окровавленные, дразняще красные руки Джека, куски сырого мяса, которыми наделяет он своих охотников, опять-таки несут совсем другие функции, чем хлеб и мясо, выливаемая из сапога вода и "взаправду" разбитый нос в "Братьях и сестрах". Кровь на руках Джека не менее символична, чем кровь на руках Соленого в любимовских "Трех сестрах". /Хотя Джек, в отличие от Соленого, вполне мог бы появиться в таком виде и по логике внешнего правдоподобия/.
Однажды пролитая кровь настойчиво требует новой. И вот уже не свинья, а один из мальчиков — Роберт — оказывается в центре круга охотников. Жуткая потеха, начавшись как детская забава, обнаруживает свою зловещую изнанку. Миловидные лица исчезли за грязно-серыми масками, не скрывающими, но лишь подчеркивающими выражение исступленной злобы. С упоением и восторгом выкрикивают они "Бей зверя!" и с самозабвенной жестокостью пинают ногами остатки самолета, на которые забрался в поисках спасения Роберт. Но вот с отчаянным, режущим уши, совершенно несценическим криком Роберт спрыгивает вниз, и охотники, словно очнувшись от кошмара, расходятся, стараясь не глядеть друг на друга. Пока убийство не состоялось. Но зверь, выпущенный на свободу, уже делает свое дело.
Зверь, темная, губительная сила, теперь безраздельно властвует над островом. Отвратительная, коварно ухмыляющаяся свиная рожа Повелителя мух победно парит вверху. Взгляд злобных глазок, заплывших жиром, гипнотизирует и притягивает робкого и задумчивого Саймона, которого все остальные считают придурком. Он, не имеющий в душе своего собственного зверя, не может защищаться, и уже чувствует свою обреченность. Омерзительно подхихикивая, глумливый и торжествующий Повелитель мух предрекает ему гибель. /К сожалению, И. Скляру не удалось избежать штампов изображения человека "не от мира сего", он, что называется, "пережимает" делая акцент на ненормальности Саймона. Это, да еще несколько "мультипликационные" интонации повелителя ослабляют восприятие сцены/.
Разрушительной стихии не может противостоять ни бессильная духовность Саймона, ни трезвый рационализм благоразумного Хрюши /Г. Дитятковский/, который уверен, что все в жизни обязано происходить "по порядку", так, как положено. Увы, этот взгляд столь же ограничен и недальновиден, как и сам
Хрюша, ничего не видящий без очков. И добродушный, основательный, серьезный Ральф тоже растерян перед разгулом зверства, свидетелем которого он стал. Законы, в которые он так твердо верил, те, казалось бы, незыблемые правила поведения, выработанные обществом за тысячелетия своего существования, вдруг обнаружили свою несостоятельность. Цивилизованная страсть к порядку не смогла стать хоть сколько-нибудь серьезным соперником Повелителю мух. Ведь самый гуманный, разумный и справедливый закон — ничто, если он не имеет прочных оснований в человеческой душе. Слова Голдинга "назначение художника — дать людям понять их собственную человечность", разумеется, не случайно появились в программке спектакля. Ральф, который обладает наибольшей жизнеспособностью благодаря естественным добрым началам, свойственным его природе, но пока еще неосознанным им самим, должен, утратив детскую безоблачность взгляда, пройти мучительный путь к осознанию своей человечности. Только тогда она станет силой, способной сражаться со зверем.
А пока Повелитель мух все укрепляет свою власть над неразвитыми человеческими душами. Герои романа Голдинга за несколько дней из благовоспитанных мальчиков превращались в дикое племя. Герои спектакля избирают для себя тоталитарную диктатуру — режим, наиболее удобный для того, кто устал от обязанностей, связанных со званием человека. Серые маски охотников уже стерты, но мальчики вдруг опять становятся пугающе безликими. Яростно отбивая ритм, отупевшие, полубезумные, маршируют они по сцене. А наверху, взобравшись на крышу самолета, в чудовищном экстазе неистовствует их предводитель — Джек Меридью. Нелепо подергиваясь, как картонный паяц, этот вдохновенный идеолог зла срывающимся от исступления голосом выкрикивает слова молитвы, ставшей воинственным гимном. "Когда лишусь опоры я земной, пребудь со мной, Господь, пребудь со мной" — эти, ставшие неожиданно жесткими слова еще долго звучат за сценой. И еще — звук, который кажется топотом-тысяч сапог. И отрывистые выкрики. Отзвук железного грохота у фашистских парадов… В такие минуты связь трагедии голдинговских мальчиков с судьбой человечества становится особенно очевидна. Что двигало стройными колоннами, вытаптывающими все живое? Лишь социальные механизмы? Но ведь и их что-то приводило в движение…
Зловещий танец, проникнутый отточенным и жестким ритмом, обладает удивительной завораживающей силой. Вообще, в этом спектакле Додин не чуждается воздействия почти физиологического, откровенно провоцируя эмоциональную активность зрителей. "Повелитель" "забирает" человека, даже если он противится этому и не готов к восприятию. Единство настроения, очень сильное "поле напряжения", делающее особенно явственными идущие со сцены токи — благодаря этому спектакль, построенный на достаточно рациональных режиссерских приемах, не оставляет ощущения "сделанности", он возбуждает и делает особенно восприимчивым зрительское сознание.
Считается, что по силе эмоционального воздействия музыка занимает ведущее место. В постановке Додина она не только будоражит зрительские нервы, но и обнажает смысл происходящего, и придает ему иной масштаб. Вот гаснет костер — символ разума, последняя надежда на спасение, а мальчики, заметив проходящий мимо корабль, беспорядочно мечутся по сцене, не зная, что делать, как подать знак. А в тревожной, пронизывающей печальной мелодии скрипок, заполняющей сценическое пространство, звучит всеохватная скорбь и она поднимает произведение до уровня всечеловеческой трагедии. Сегодня, когда мы каждый день слышим призывы к разуму, который должен наконец восторжествовать и спасти мир, ассоциации неизбежны.
Герои спектакля — прежде всего люди, не выродки, не недочеловеки. Свое сострадание театр всем дарует в равной мере, потому что видит в них представителей заблудшего человечества, а в том, что случилось — и их беду, а не только вину. Разрушительные начала, вырвавшиеся из-под их власти, страшат их самих. И ночью, после воинственного, грозно топочущего хоровода, "демон зла" Джек, обливаясь слезами, будет повторять за Саймоном немудреные слова детской песенки, словно пытаясь очиститься от завладевшей им скверны. "Да, любит Он, да, любит Он, я знаю, любит Он. Бог любит маленьких детей, он любит и меня", -с истовой верой твердит мальчик, изо всех сил пытаясь пробудить в себе человеческое. Это звучит как заклятие.
А потом разразится гроза, в бездушном буйстве будет раскачиваться над островом Повелитель мух, и похотливо-сладострастные интонации зазвучат в колыбельной песенке, которую выкликает торжествующий властелин острова. Повинуясь его призывам, мальчики вновь образуют свой охотничий круг и начинают жуткий танец. И теперь в центре его оказывается Саймон. Саймон, который хотел сласти их, убедить, что Зверя, которого все так боятся, не существует, это выдумка, игра воображения. Но Зверь есть. Это он делает их глаза пустыми и безумными. Это он заставляет их с остервенением наносить удары ногами. Повторяется сцена, свидетелями которой мы уже были. Но теперь тому, вокруг кого в устрашающем безмолвии сжимается охотничий хоровод, нет пощады. Луч прожектора в последний раз скользит по лицу Саймона. "Да, любит Он, да, любит Он, я знаю, любит Он…" — его звенящий голос тает в темноте острова. Заклятие оказалось бессильным.
Развязка приближается. Мегафон, символ порядка и благоразумия, становится орудием убийства. С хладнокровным расчетом, методично наносит юный палач Роджер удары по черепу Хрюши. И, обливаясь кровью, несчастный маленький разумник падает под ноги своих товарищей.
Но Повелителю мало этих жертв. Могущественные и враждебные силы, порожденные людьми, теперь должны погубить их. Преследуемый улюлюкающими охотниками, задыхаясь, изнемогая, будет рваться к вершине Ральф, тщетно ища спасение. А остров уже объят пламенем. И вновь звучит исполненный всечеловеческой скорби плач скрипок. Они погубили свое последнее пристанище… Во всепожирающем огне не останется ничего живого…
В спектакле на помощь мальчикам приходят некие высшие силы. Властный голос "бога из машины" прекращает безудержное торжество Зверя. Кто он — этот невидимый и всемогущий, в ответ которому доносится из темноты слабый шелест детских голосов: "Здравствуйте, сэр… Мы только играли". Может быть, это некий вселенский разум, не могущий допустить разгула безумия. Но, кто бы он на был, его вмешательство лишь подчеркивает нереальность спасения и безысходность финала. Увы, мы не можем рассчитывать на покровительство свыше.
Спектакль окончен. А луч света настойчиво выхватывает из темноты два лица, залитых слезами. Им даровано хоть позднее, но все равно очищающее осознание ужаса содеянного…
…Много-много веков назад был придуман этот термин — катарсис. Очищение через потрясение, которое будет дано зрителям лишь в том случае, если его пережили герои. Наверное, в применении к современному театру это древнее слово кажется анахронизмом. И все же хочется, чтобы театр сохранял свою удивительную способность — потрясать.
1Кравцова А. "Мы только играли… ". Смена, I986, 8 ноября.







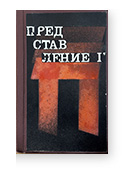


Комментарии (0)