Спектакль "Отелло" в театре имени Марджанишвили начинается неожиданно. После убийства Дездемоны Отелло бьют кнутами — яростно, жестоко. В финале спектакля эта сцена повторится вновь и закончится самоубийством Отелло. Все основные события трагедии разворачиваются как бы в сознании Отелло, в короткий промежуток времени перед тем, как он решает покончить с собой. Такая интерпретация поначалу вызывает недоверие, настораживает — не сразу понимаешь глубину замысла режиссера. И только потом, органически воплощенный в художественном образе спектакля, он постепенно входит в сердце и сознание…
Прекращается свист кнутов, Отелло оставляют одного. И ровный голос сверху повторяет как молитву или заклинание одни и те же слова — какую-то высшую мудрость, единственную истину о мире и человеке. Голос извне, не из этого мира, все понимающий о человеке, в то время как он, человек, не ведает что творит, — здесь, на земле, такое понимание приходит не сразу, не одновременно с происходящим, а только потом, после всего совершенного. Лишь на край жизни, после развернувшейся трагедии Отелло восстанавливает в памяти случившееся, понимая только теперь его истинный смысл.
В свете этого позднего прозрения мы и будем следить за совершающимися событиями, изначально задавшись вопросом: как же движется, по каким законам развивается эта жизнь, давая победить злу?
И начинается воспоминание…
В глубине сцены — спиной к нам — возникает фигура человека. Резко развернувшись, он выходит из темноты, и по мере его приближения к авансцене пространство освещается рывками — ярче, ярче, — и вот он перед нами, Яго. Он, чьей волей и энергией сдвинулось, сместилось привычное течение жизни, нарушился естественный порядок вещей, подчинившись злу. Он сразу начинает действовать — воздействовать на жизнь, переделывая ее по своему плану.
Яго /Н. Мгалоблишвили/ обладает какой-то непостижимой силой притяжения — такой сгусток энергии собран у него внутри. Страстное желание власти над жизнью, насилия над ней, изменения ее по своему плану — это его определяющая черта. И, как следствие, ненависть ко всему, что не подчиняется его воле, мешает обладать, господствовать, — к Кассио, Отелло, и даже к Дездемоне. Дездемона, чья живая красота вызывает у него то же желание обладать и властвовать, подчиняется не его власти — значит, должна умереть. Фигура Яго-Мгалоблишвили /худое тело, острый профиль/ словно разрезает пространство, когда он стремительно выходит на сцену. Музыка — напряженный современный ритм, резко не соответствующий, чужеродный всему неторопливому, естественному движению жизни в спектакле Чхеидзе — помогает ощутить это активное "вторжение". Но, внедряясь в естественный порядок вещей, который сразу изменить невозможно, Яго усвоил его законы. Он управляет своей энергией и страстью с завидным умением и расчетом, меняя жизнь не громадными усилиями, но постепенно, терпеливо — зато постоянно и неотступно. Стоит вслушаться в звучание его речи, всмотреться в его пластику: наступая и отступая, нащупывая слабые места, он "давит", "мнет", "лепит", "перекраивает" живую материю. И жизнь не сразу, но чем дальше, тем больше, подчиняется его воздействию.
Вот он убеждает Родриго на драку с Кассио — сколько сил и терпения на это тратится! Родриго слушает долго, почти никак не реагируя, не меняясь в лице. Кажется, ничто не способно сдвинуть его с места, — но Яго не отступает, и Родриго соглашается в конце концов.
Ночная драка Кассио и Монтано, подготовленная Яго, тоже происходит без лишнего шума и беготни. Яго не мечется между Кассио и Монтано, как бы разнимая их, /драки как таковой и нет, двое только ходят друг за другом напряженными кругами/, а как режиссер ведет спектакль: стоя чуть в стороне, однообразно повторяет: "Монтано… Кассио… Монтано… Кассио…", терпеливо выжидая развязку ссоры. Нож мелькает неожиданно и быстро: Кассио ранит Монтано.
Так же не сразу, постепенно, только после первой победы — увольнения Кассио — Яго начинает разрушать счастье Отелло. Отелло /О. Мегвинетухуцеси/ и Дездемона /М. Джанашиа/, появляясь на сцене вместе, создавали какую-то удивительную гармонию движений, голосов, взглядов: все остальные словно пропадали вокруг, когда говорили эти двое. Отелло и в отсутствии Дездемоны был погружен в этот особый мир, спокоен и счастлив. Под бесконечным потоком речи Яго с обилием намеков на связь Дездемоны и Кассио Отелло долго сохраняет безмятежное спокойствие, даже смеется в ответ на какой-то из доводов — но постепенно как-то замирает, застывает, все более напряженно прислушивается.
В исполнении Мегвинетухуцеси Отелло — действительно трагического масштаба личность. Высокий, красивый, сильный телом и духом человек, он не сразу верит подозрениям. Но сомнения нарастают — и, до этого уверенный в себе и в своем счастье, он словно теряет опору, и даже ходить начинает пошатываясь, как великан на глиняных ногах. Муки страсти, борьбу любви и ненависти, надежды и сомнений актер передает силой внутреннего напряжения, огромным диапазоном колебаний голоса. Никаких метаний по сцене, взрывного крика: Мегвинетухуцеси играет сильную страсть без внешне эффектных ее проявлений, что соответствует всей художественной системе спектакля. Перевернутый высокий ступ становится символом утраченной гармонии, нарушенного порядка вещей, начала хаоса — и Отелло, не понимая того, оказывается во власти Яго, помогая ему в его насилии над жизнью и сам подвергаясь этому насилию.
Припадок эпилепсии сыгран Мегвинетухуцеси без всяких признаков бешенства — как предел душевных и физических мук, от которых нет избавления. Огромное внутреннее напряжение словно разбивается о стену /нет больше надежды — Яго доказал все/, доводит Отелло до исступления, лишает сил — и он замирает, запрокинув голову, неожиданно и неловко перевернувшись на спину.
Яго тут же вставляет ему нож между зубами. Так нужно для эпилептика, но в этом жесте читается страшное: он довел Отелло до потери сил и сознания, а теперь помогает очнуться, чтобы продолжить осуществление своего плана.
Зло не останавливается ни перед какими средствами для достижения своих целей — и в воздействии на жизнь оно оказывается гораздо более сильным, энергичным, расчетливым, чем добро. Добро, и не вынашивая планов господства и насилия над жизнью, подчиняется ее естественному течению — и вместе с ней подчиняется насилию зла, не различая его под маской добродетели и не сопротивляясь. Яго Мгалоблишвили показал, как притягательно, даже красиво — волей, умом, укрощаемой страстью — может быть зло. Отелло уступает Яго в этих качествах: он вызывает боль своей неспособностью распознать обман, страшной нелепостью своих действий под умелым руководством Яго. Не случайно еще дважды в спектакле — в сценах припадка Отелло и убийства Дездемоны — прозвучит тот скорбный голос сверху, отсылая нас к началу спектакля, заставляя вспомнить о боли позднего прозрения Отелло.
Под воздействием Яго трудно и не сразу меняется естественное печение жизни — но как хрупка и беззащитна оказывается жизнь, когда все выходит из своего привычного русла. В спектакле Чхеидзе особым образом существуют живое и неживое: они включены в единое общее движение. Когда нарушается это естественное движение — смещаются границы живой и неживой материи. Это начинаешь ощущать исподволь, постепенно — в режиссуре Чхеидзе нет ничего нарочитого, все кажется простым и естественным. Спектакль насыщен той глубиной художественной образности, которая не поддается однозначному толкованию.
Мешки. Серые, бесформенные, неплотно набитые чем-то, что мнется, и переваливается внутри. С ними что-то постоянно делает Яго: переворачивает, поднимает, перетаскивает с места на место, садится верхом. Эти мешки — в пространстве сцены, напоминающем дощатый трон старого корабля, они смотрятся естественно — неотъемлемая часть плоти спектакля и органически вырастающий из этой плоти символ: неживое подобие живого. Неосознанно становясь игрушкой в руках злодея, за мешки берется Отелло, и однажды, неожиданно, — Дездемона. Так все больше и больше нарушается естественный порядок вещей, живая и неживая материя начинают переходить, перетекать друг в друга, одна другой уподобляться.
Мешком Отелло душит Дездемону: положил на нее сверху и вдарил всей силой — мертвое в живое…
…Дездемона, уже задушенная, — руки как плети, тело совсем плоское, словно в ней действительно задавили жизнь, — вдруг поднимается и идет к Отелло: повисает на нем, целует — мертвая живого — и медленно сползает на пол…
…Отелло в финале перекусывает себе вены, опускает руки в сосуд, — и жизнь медленно утекает из него: тело мякнет, оседает и "мешком" валится к ногам Дездемоны…
Но тяжелая, косная, не осознающая себя материя, развиваясь по своим законам, остается безразличной к судьбе человека: в ее вечном движении временный перевес в сторону добра или зла, жизни или смерти ничего не значит. Трагедия человека в спектакле Чхеидзе не потрясает основы мира, как это было у Шекспира. У Чхеидзе не восстанавливается в финале равновесие добра и зла, но только естественный порядок вещей, к добру и злу безразличный. Человек гибнет — в мире же ничего не меняется.
"Не видно ли чего в морской дали?" — Нет. Ровно ничего. Сплошные волны. Ни паруса. Пустынный горизонт", так начинались события на Кипре перед появлением Отелло, этими же словами кончается спектакль. После смерти Отелло начнется новый круг движения, в котором так же возможна победа зла и трагедия человека.
Спектакль Чхеидзе постигает в развитии, движении жизни закономерности этого движения, борьба добра и зла, — в этом режиссер идет от Шекспира. Но у Шекспира наряду с неслучайностью победы зла закономерным является и конечное торжество истины, справедливости. Трагедия Шекспира заканчивается сценой, когда все узнают все о свершившемся злодействе, и даже после убийства Отелло еще раз звучит напоминание о суровой каре злодею. Ничто не остается не узнанным и безнаказанным — для Шекспира это принципиально важно. В постижении добра и зла Шекспир соединяет точку зрения космоса и человека. Чхеидзе сознательно выбирает только человека: Отелло для него является единственной точкой отсчета в постижении справедливости или несправедливости устройства мира. Такое решение не противоречит Шекспиру. В трагедии Отелло своим самоубийством не только карает себя за совершенное зло — после всего случившегося ни торжество истины, ни будущее наказание злодея уже не могут вернуть Отелло былую веру в справедливость мира, силы и желание жить. Это одна из важнейших сторон трагического у Шекспира. Она и определила режиссерскую концепцию спектакля: поэтому мы и смотрели на происходящее глазами Отелло. И поэтому Чхеидзе снял вопрос о наказании злодея /Яго убегает и больше не появляется в финале/: после гибели Дездемоны и Отелло ничто не может уравновесить чаши добра и зла, восстановить справедливость.
При всем своеобразии интерпретации Шекспира Чхеидзе сумел добиться удивительной художественной цельности, внутренней завершенности в своем спектакле. Не до конца проясненным остался только мотив черного и белого, тьмы и света. Дездемона в белом платье со свечой как олицетворение чистоты и света, сам Отелло в белой рубашке, которая меняется на темную, когда хаос побеждает в нем, все это органично в спектакле. Жестокость, с которой Отелло бьют и мажут лицо черной краской, заставляете, думать о насилии как методе зла: Отелло не по его воле делают злодеем. Но то, что Отелло несколько раз повторяет: "Я черен — вот причина", -как-то не находит достаточной художественной аргументации в спектакле. Но, при всем этом, "Отелло" в театре имени Марджанишвили остается одним из самых сильных художественных впечатлений года.







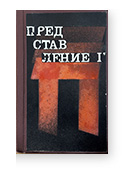


Комментарии (0)