Вы снова здесь, изменчивые тени,
Меня тревожившие с давних пор…
ВЗГЛЯД ПРИСТРАСТНОГО ЗРИТЕЛЯ
ЧАCТЬ I. 1960-e
ПРОЛОГ ЧЕРЕЗ ЛИНЗУ
Хорошо помню поздний январский вечер 1978 года, когда взрослые уложили меня спать, а сами сели перед телевизором, чуть приглушив звук. Так часто происходило, пока я учился в младших классах и обязан был вставать в школу очень рано. Заснуть сразу у меня не получалось, лежа в кровати, я прислушивался к звуку телевизора и многие фильмы и телепрограммы слушал из соседней комнаты, сам придумывая к ним картинку. В этот вечер история в телевизоре развертывалась такая необычная и увлекательная, что картинка не придумывалась, и я прямо весь извелся — очень хотелось хоть одним глазочком заглянуть в экран, понять, как же это выглядит. Шел телевизионный спектакль «Лишний день в июне», созданный Олегом Рябоконем по фантастической повести Джона Б. Пристли «31 июня», — современная сказка для взрослых, музыкальная фантазия «о верной любви, предприимчивости и прогрессе в век короля Артура и век атома». Я, конечно, узнал голос Михаила Боярского, игравшего главную роль, узнал голоса и других ленинградских артистов — Виктора Костецкого, Михаила Светина, Евгения Тиличеева. Когда же в сюжете появился дракон, мне так захотелось его увидеть, что я вытянул шею, не удержался, вывалился из кровати, произвел шум и переполох, был отчитан и еще прочнее упрятан в своей комнате. Ладно, решил я, вырасту — обязательно посмотрю эту постановку, никуда она от меня не денется. Но я ошибся. То был второй и последний показ спектакля по телевидению. Чудная эта постановка не сохранилась, как и большое количество других телеспектаклей Ленинградского телетеатра. «Лишний день» действительно показался кому-то лишним. От него остались только фотографии нескольких кадров и чудом сохранившаяся звуковая дорожка. Я так и не увидел, как Рэм Лебедев изображал дракона, не узнал, какова была принцесса Мелисента в исполнении Ларисы Луппиан и король Мелиот — Анатолий Равикович. Постановка так и осталась для меня фонограммой невидимой истории. Так что все, что я могу, это еще раз переслушать желанный спектакль, так и не увидев его изображения. Какие-то другие взрослые лишили меня этого праздника навсегда.
Хотя нет, я все-таки могу гораздо больше. Воображение осталось при мне, и я могу попытаться восстановить многие события, связанные с Ленинградским телетеатром, понять его историю и эволюцию, а заодно пересмотреть сами спектакли — сохранившиеся — воочию, а утраченные — мысленно, придумывая к ним картинку.
В юности меня больше всего удивляло, что у телетеатра есть конкретный городской адрес. Телевизионный театр я воспринимал как явление эфемерное, виртуальное — сцены нет, кулис и занавеса нет, зрительного зала не нужно. И, когда в журналах или справочниках мне попадался среди других театров Ленинградский телевизионный, что-то не стыковалось у меня в голове. Хотелось съездить на Каменный остров и посмотреть, как же это все выглядит и что же там происходит по вечерам. Но не сподобился я доехать до таинственного театра, зато его постановки смотрел с завидной периодичностью, практически каждую неделю — усаживаясь поудобней перед телевизором и включая вторую, местную программу (как сейчас говорят — канал). Возможно, это был мой самый любимый театр. Да что там был — он таковым и остается.
Теперь, когда в том историческом здании располагается совсем другой театр — филиал нынешнего БДТ им. Товстоногова, — я мысленно возвращаюсь к тем временам и читаю воспоминания очевидцев. Воспоминания отрывочны, цельную картину составить трудно. И все же я пытаюсь собрать последовательность, хотя бы в первом приближении.
Но, прежде чем начать свои заметки, хочу уточнить терминологию.
Я давно заметил, что люди плохо разбираются в телевизионных постановках и не понимают разницы между фильмом—спектаклем и телевизионным спектаклем. В интернете эти понятия смешиваются до полной неразберихи, разницей пренебрегают. А она существенна.
Фильмом-спектаклем называют зафиксированную на пленку уже существующую театральную постановку. В настоящее время это обычно именуют видеоверсиями. Телевизионные спектакли — это оригинальные постановки, сделанные на телевидении и специально для показа по телевидению. По способу производства телеспектакли родственны кинофильмам, только снимаются не на кино-, а на видеопленку. С течением времени в них стали включаться натурные съемки, и тогда телетеатр еще больше стал походить на кино. И все-таки остался театром — со своей условностью решений, метафоричностью высказываний, последовательной съемкой эпизодов.
В этих записках я буду говорить только о телевизионных спектаклях. Фильмы-спектакли — это другая история.
7 июля 1938 года в Ленинграде — впервые в стране — начались регулярные трансляции телевизионных передач. В декабре 1938 года Опытный ленинградский телецентр показывает первый спектакль, поставленный специально для телевидения и идущий в прямом эфире, — камерную оперетту Жака Оффенбаха «Лизетта и Филидор» в постановке Ивана Ермакова. Весной 1939-го выходит в эфир первый драматический спектакль — «Тайна» по драме Рамона Сандера о гражданской войне в Испании. Телевизор тогда еще не был одомашнен — водился он только в редких клубах и Домах Культуры. Чтобы посмотреть передачу, надо было идти на сеанс, как в кино или на танцы. Правда, экран у телеприемников был очень маленький, поэтому удовольствие от просмотра получали только те, кто успевал сесть поближе и поудобнее. Потом грянула война, и тема телевидения надолго потеряла свою актуальность; работники телецентра пересели за радарные установки.
Трансляции возобновляются в 1948-м. Основное эфирное время занимают кинофильмы, театральные постановки и концерты, причем спектаклей в программе гораздо больше, чем всего остального. Телевидение транслирует их из театров Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Перми и многих других городов. В 1951 году в Москве появляется Центральная студия телевидения. В середине 50-х телевещание в Москве и Ленинграде становится ежедневным.
В историческом 1956 году, когда Хрущев выступает с докладом на XX съезде КПСС, Ленинградское телевидение располагается в деревянном садовом домике на улице Академика Павлова. Студия здесь всего одна — 60 кв. метров; из нее и идут в эфир все передачи. Вещание — от 6 до 8 часов в сутки. Работают на телевидении в основном те, кто раньше работал в театрах и на радио.
Постановка (или передача, как ее называли сами режиссеры) из Ленинградской студии транслируется по Центральному телевидению — отдельного ленинградского канала еще не существует, кнопка на приемнике одна-единственная, поэтому обе столицы конкурируют на равных условиях. Москвичи, говорят, признавали первенство ленинградской школы, отдавали дань уважения мастерству ее первопроходцев — режиссеров Давида Карасика, Александра Белинского, Льва Цуцульковскоого, Дины Луковой, Владимира Карпова, Вадима Горлова, Юрия Маляцкого, Ивана Рассомахина, Ирины Сорокиной, Инессы Мамышевой.
Вплоть до второй половины шестидесятых телевизионные спек—такли играются в студии живьем, от начала до конца, как бы сейчас сказали, «онлайн». Трансляции предшествует длительный, в 2–3 ме— сяца, подготовительный период. В павильоне выстраивается декорация, намечаются места для статичных камер и выкладываются рельсы для подвижных. Съемка идет многокамерным методом (гораздо позже он появился и в отечественном кино), но камер было немного — две или три, максимум четыре. Потом начинаются репетиции — сначала только с актерами, а затем и с подключением операторской, звукооператорской и осветительской бригад. Общая репетиция называется тракт, ее цель — скоординировать работу всей творческой группы. (Собственно говоря, все западные вечерние шоу, идущие в прямом эфире, до сих пор работают по тому же принципу, только технические возможности у них совершенно другие.) Монтаж делается не на монтажном столе, а опять же прямо в эфире, путем поочередного включения камер. Дирижирует включениями режиссер спектакля, стоя в аппаратной и наблюдая сверху происходящее в павильоне, — мониторной панорамы тогда тоже еще не было, и переключение камер происходило интуитивно. В начале 60-х начинают производить параллельную запись — перед монитором, куда выходит сигнал, ставят включенную кинокамеру, которая снимает транслируемый спектакль на кинопленку. В исключительных случаях, если по настоятельным просьбам телезрителей требуется спектакль повторить, а запись не удалась, снова ставятся декорации, собираются актеры и остальная съемочная группа — и спектакль играется заново и заново транслируется.

В 1961 году открывается новое здание Ленинградского телевидения на улице Чапыгина, 6 — крупнейший на тот момент в Европе телецентр: 21 современная студия плюс бессчетное количество помещений для редакций и всего прочего. Вещание выходит на новый уровень и вступает в свой недолгий, но бурный период — черно-белый, оттепельный.
60-е ГОДЫ. ЧЕРНО-БЕЛОЕ ЗОЛОТО
Мало кто сейчас говорит об этом, но отечественный телетеатр стал еще одним открытием и обретением оттепели. Исторический момент совпал с моментом научно-техническим — и там, где еще десятилетие назад не могло возникнуть ничего, кроме пропаганды, самозародилось искусство, новый его вид — синтез четырех стихий: литературы, театра, кинематографа и телерепортажа. Лучшие телеспектакли 60-х вслед за своими старшими братьями — театральными постановками и кинофильмами — были пропитаны духом вольнодумства и просветительства, они шли рука об руку с актуальной литературой, резонировали с самыми передовыми веяниями, насколько это возможно, вносили вклад в освобождение зрителя от клише сталинской идеологии и имперской псевдокультуры — они выполняли культурную миссию, делали телевидение источником познания искусства, а не инструментом манипулирования. У них, первопроходцев нового искусства, даже не было примера — мало кто видел, что происходило в это же время с телевидением за рубежом, да и вряд ли его концепция могла подойти для нашей тогдашней почвы, — и все приходилось изобретать самим. И изобретались не только способы технической подачи, но и смыслы. Комедии и развлекательные программы, интеллектуальные конкурсы и семейные соревнования, концерты и оперетты — все подтягивалось к высокой планке, заданной Редакцией литературно—художественного вещания. Это было время, когда «Голубые огоньки» и «Турниры СК» делали те же люди, что ставили Шекспира, Чехова и Шоу. Оттого многие сохранившиеся постановки — за все четыре десятка лет существования телетеатра — актуальны по сей день и имеют не только историческую, но и художественную ценность. В них по-прежнему пульсируют живая мысль и вневременная острота.

Н. Симонов (Сальери). Телеспектакль «Моцарт и Сальери». 1971 г. Фото из книги «Актер на телевидении»
К чести Ленинградского телетеатра надо отметить, что в репертуаре 60-х годов не такое уж большое место занимали производственные мелодрамы и биографии пламенных революционеров, преобладала классика, мировая и русская, комедии и музыкальные постановки. Шекспир, Лопе де Вега, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Островский, Достоевский, Тургенев, Чехов — основа телерепертуара. Современная советская литература представлена произведениями Александра Афиногенова, Веры Пановой, Александра Бека, Алексея Арбузова, но постепенно появляются и новые имена: Леонид Зорин, Юрий Нагибин, Виктор Розов, Федор Абрамов. В 60-м на ленинградском телеэкране ставятся Брехт, Хемингуэй, Стейнбек, Сэлинджер, Уильямс, Чапек, Тынянов, Булгаков, Ильф и Петров, Олеша, Ануй, Лем, Брэдбери, Моравиа, братья Стругацкие. На оттепельной волне возникают постановки по самым свежим, актуальным произведениям. В начале 60-х Давид Карасик переносит на телеэкран «Коллег» — популярнейшую в те дни повесть Василия Аксенова — и пьесу «Стеклянный зверинец» Теннесси Уильямса, которого только начали открывать на советской сцене. Георгий Товстоногов делает спектакли «Гром на улице Платанов» по пьесе американского драматурга Реджинальда Роуза (фильм Сидни Люмета по его телепьесе «12 разгневанных мужчин» только что с огромным успехом прошел по советским экранам) и «Если позовет товарищ…» по рассказу Виктора Конецкого. Игорь Владимиров и Владислав Андрушкевич ставят пьесу Самуила Алешина о Шекспире «Человек из Стратфорда». Рубен Агамирзян создает спектакль—обозрение «Шпильки» на основе миниатюр из одноименного польского сатирического журнала. Участвующие в этих постановках актеры БДТ Ефим Копелян, Павел Луспекаев, Кирилл Лавров, Эмма Попова становятся не только ядром формирующийся труппы телетеатра, но лицами и голосами нового поколения; их герои-типажи перехватывают лидерство у Николая Симонова и Николая Черкасова. Они — актеры первого телепоколения, пришедшего на смену кинопоколению, и всенародное признание они получили не благодаря театру, явлению великому, но технически более локальному, не благодаря кино, которое хоть и делало их узнаваемыми, но навязывало готовые, тесноватые амплуа, — а благодаря телевизионному вещанию. У телетеатра имеются свои плюсы: он предоставляет актерам широкий диапазон ролей, классических и современных, быструю смену репертуара и позволяет самым одаренным не только раскрыть свои таланты, но и выразить через них нечто большее — поколенческое.

П. Луспекаев (Гайдар). Телеспектакль «Двадцать седьмой неполный». 1970 г. Фото из книги «Актер на телевидении»
В 60-х Ленинградское телевещание выпускает 24 спектакля в год; это больше всех годовых премьер в театрах города. Но главное, конечно, не в количестве, а в качестве: именно в начале 60-х начинают выходить спектакли, которые имеют запас временной прочности.
Для нас, имеющих возможность судить о Ленинградском телетеатре по сохранившимся постановкам, его новейшая история начинается с 1963 года. Удивительно много событий вмещают в себя 60-е годы, но и за один 1963-й успевает произойти немало важного и судьбоносного. В этом году совсем неподалеку от Чапыгина, 6 вырастает самая высокая и горделивая в Союзе (на тот момент) телевизионная башня — 326 метров, и это увеличивает охват вещания и прибавляет к телезрителям Ленинграда телезрителей Ленинградской области. В этом году в ЛГИТМиКе создается кафедра телевизионной режиссуры. В этом году Петра Рачинского, первого руководителя Лен ТВ, исполнительного партийца и крепкого хозяйственника, сменяет на боевом посту Борис Фирсов — директор сдержанных, но все—таки демократических взглядов, сделавший на своем поприще много полезного. При нем создается Главная редакция литературно-драматического вещания — Литдрама, как называют ее сами работники телевидения, — и более четкой становится специализация штатных режиссеров: теперь постановщики, приписанные к редакции, могут сконцентрироваться на телеспектаклях, не отвлекаясь на съемки очередного пуска прокатного стана или трансляцию хоккейного матча. Главный режиссер Литдрамы — легендарный Иван Ермаков, бывший чапаевец. Именно он в 1939 году создал первые в стране художественные телеспектакли «Нахлебник» по комедии Тургенева и «Два брата» по драме Лермонтова, транслировавшиеся еще из Ленинградского опытного телецентра. Ермаков приходит сюда после работы в Театре Музкомедии, он одержимо верит в большое будущее телевидения и, заражая этой верой молодых режиссеров, редакторов, художников, собирает вокруг себя команду единомышленников. С его подачи на телевидении появляются театральные режиссеры Рубен Агамирзян, Павел Вейсбрем, Вадим Голиков, Роза Сирота, Владислав Андрушкевич, Мар Сулимов, Лев Додин, Игорь Горбачев, Виталий Фиалковский. Редакторским отделом руководит Игорь Масленников. Будущий выдающийся кинорежиссер, сценарист и педагог, автор «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимней вишни» свой творческий путь начинает на Ленинградском ТВ: окончив в конце 50-х филфак университета, он работает здесь сначала как журналист молодежной редакции, затем — как сценограф телепостановок. Это он оформляет первые постановки для детей и придумывает фотофоны — гигантские фотографии, распечатанные на рулонной бумаге и используемые в качестве декораций и задников. Главным редактором Литдрамы его назначают тоже в 1963-м.
Наконец, в этом году на телеэкраны выходят такие заметные спектакли, как «Макбет» Карасика (с Михаилом Волковым в главной роли); «Мститель» Товстоногова по роману Гюнтера Вайзенборна, немецкого писателя—антифашиста (с Владиславом Стржельчиком и Кириллом Лавровым); «Очарованный странник» Ермакова по повести Лескова (с Николаем Симоновым); «Рембрандт» Леонида Пчелкина и Ефима Копеляна (он же в главной роли) по драматической поэме Дмитрия Кедрина.
Но самое главное происходит в конце года — это премьеры, ставшие отправными точками в новой главе ленинградского телетеатра. Появившись на излете оттепели, они тем не менее были именно ее плодами. Из этой инерции свободы и возникают «Кюхля» и «Зима тревоги нашей». Оба спектакля — экранизации популярных романов, оба имеют явную связь с БДТ — в них заняты ведущие артисты труппы, а главные роли исполняют Сергей Юрский и Иннокентий Смоктуновский. Актеры появляются на телеэкране после громких товстоноговских премьер: Смоктуновский уже сыграл князя Мышкина в «Идиоте» (1957), Юрский — Чацкого в «Горе от ума» (1962). И нет в тот момент в Ленинграде более обсуждаемых спектаклей и более возмущающих спокойствие кумиров.
Роман Стейнбека «Зима тревоги нашей» перенесла на экран Роза Сирота, работавшая в ту пору вторым режиссером у Товстоногова (в том числе и на «Идиоте»). Постановка сделана по горячим следам: книга Стейнбека вышла в 1961 году, перевод на русский опубликован годом позже, еще через год появляется этот спектакль. Смоктуновский, играющий Итана Хоули, в момент репетиций работает над ролью Гамлета в кинофильме Козинцева, и вполне уловимая взаимосвязь двух столь разных героев дает спектаклю дополнительное напряжение. Для вмещения романа в полуторачасовой хронометраж Сирота придумывает необычный ход — вводит в действие комментатора-литературоведа, в качестве которого выступает филолог Константин Долинин. Вкрадчивый собеседник появляется в начале, как бы задавая тон повествованию и объясняя зрителю контекст произведения, а затем возникает вновь и вновь, заполняя упущенные в экранизации страницы, придавая телеконспекту романа цельность и наполненность. Долинину удается проделать это с таким редкостным тактом — без лекторской экзальтации, без актерского наигрыша, — что режиссерская вынужденная находка становится не только полноправной частью концепции, но и безусловным достоинством постановки, определяет ее доверительную интонацию.
Роман Юрия Тынянова о Вильгельме Кюхельбекере «Кюхля» экранизирует Александр Белинский — один из основоположников телетеатра, ученик Товстоногова, самый плодовитый режиссер своего времени. Он приходит на Ленинградское ТВ в 1961 году из Театра им. Ленинского комсомола и с легкой руки Масленникова дебютирует постановкой комического обозрения «Штучный товар» по рассказам Анатоля Потемковского. Влюбившись в телеви дение и решив на нем остаться, он два года работает штатным режиссером — транслирует футбольные матчи и общественно-политические дискуссии, ставит концертные программы и новогодние представления, и только когда режиссерская специализация становится более четкой, переходит в Литературно-драматическую редакцию. В 1963-м он предлагает своему товарищу по актерским капустникам Сергею Юрскому поставить в Литдраме «Кюхлю». Выбрав роман Тынянова с прицелом на конкретного исполнителя заглавной роли, Белинский дважды попадает в десятку — идея отвечает запросу времени. Книга давно была одной из самых любимых в серьезных читательских кругах; тема декабристов волновала умы и вызывала смелые ассоциации, одновременно являясь как бы разрешенной и официально одобренной. Юрский только что покорил публику обеих столиц, сыграв Чацкого. Теперь ему предстояло сыграть прототип Чацкого, но это уже было дело второе, ибо в те дни сочетание имен Тынянова и Юрского производило на зрителей даже большее впечатление, чем имена Пушкина и Кюхельбекера. Премьеру назначили на декабрь, приурочив ее к годовщине восстания декабристов. Напоминаю и подчеркиваю, что спектакль транслировался в прямом эфире, на всю страну. До показа было пять репетиций с камерой. Действие было выстроено таким образом, что Юрскому удавалось несколько раз полностью переодеться и перегримироваться (за кадром, разумеется) — его герой появлялся на экране в начале юным лицеистом, а в финале представал изможденным и постаревшим заключенным.
Режиссерское решение этого спектакля характерно практически для всех постановок того времени. Рисованные задники. Графические перебивки, разделяющие сцены и одновременно определяющие исторический антураж. Операторские наплывы. Минимум декораций и реквизита — чтобы не загромождать расплывающуюся сероватую картинку. Вот и весь нехитрый арсенал художественно-технических приемов. Вынужденный конструктивизм, размытый самовозникающими побочными эффектами до черно-белого экспрессионизма. Иногда — очень простые комбинированные планы, доступные по тогдашним скромным возможностям: наложение или совмещение двух изображений в одном кадре. При таких вводных основными и едва ли не единственными выразительными средствами телетеатра 60-х были режиссерское решение и Его Величество Актер. Лучшие режиссеры давали понять, что говорящие головы — это вовсе не плохо и не скучно, если они располагаются на плечах талантливых и вдохновенных. Иногда они могут быть интереснее и проникновеннее любых постановочных находок и специальных эффектов, только их щадит время и сохраняет выцветающая пленка. В «Кюхле» дебютируют на телеэкране Олег Басилашвили, Владимир Рецептер, Антонина Шуранова, Игорь Дмитриев, Дмитрий Барков.
Однако «Кюхля» возник не на пустом месте, почва телетеатра была подготовленной к его явлению, система отлаженно работала, и телетеатр существовал уже несколько лет, постепенно набирая опыт и обороты. В 1959 году в студии телевещания появился Давид
Карасик — однокурсник Белинского, старший его товарищ, любимый ученик Бориса Зона. Пройдя войну и блокаду, отучившись в Театральном, поработав в Театре им. Комиссаржевской, Малом драматическом, Музкомедии, он пришел сюда, ничего не зная о телевидении, но возможности нарождающегося искусства увлекли его всерьез и навсегда. Первые его телеспектакли — обычные производственные мелодрамы тех лет: «Живет на свете женщина» Аграненко, «После свадьбы» Гранина. Из «Коллег», «Стеклянного зверинца» и «Макбета» вылупляется уже заметно другой Карасик, самобытный, всегда современный, всегда ищущий и постоянно совершенствующийся.
С него вообще началось очень многое в Литдраме, да и сам термин «Литдрама» появился благодаря ему. Он первый стал, подобно кинорежиссерам, делать раскадровки. Первым придумал и запустил в эфир интеллектуальные игры-конкурсы. Первым стал ставить литературные спектакли. Легенда гласит, что однажды, еще в конце 50-х, Давид Карасик захотел перенести на телеэкран прозу Михаила Пришвина и задумался, как можно средствами телетеатра изобразить запись из дневников писателя — о двух каплях, катящихся навстречу друг другу по телеграфной проволоке и готовых слиться в одну. Появилось решение, невозможное на сцене, но осуществимое на экране. Из него родился образ спектакля, а в процессе работы случилось еще одно открытие: пришло понимание, что актер может не только произносить то, что говорит его герой, но и озвучивать его мысли. Из этих размышлений и сопоставлений родилась концепция литературного театра, или театра представления через чтение. Спектакль по дневникам Пришвина не сохранился, и мы не можем увидеть, как же режиссер изобразил две спешащие слиться капли, но общий подход и метод Карасика легко различимы в других его постановках. Например, в «Золотой розе» (1967) по произведениям Константина Паустовского: выразительные средства здесь минимальны — это практически художественное чтение в статичных декорациях, немного раскрашенное музыкой и фотопейзажами. Посвященная творчеству, поэзии и воображению повесть Паустовского подается режиссером в виде действия, провоцирующего зрителя на творчество воображения. Содержание резонирует с формой и побуждает зрителя достраивать картинку событий, о которых рассказывают актеры. Другой вариант литературного театра — спектакль «Корабли в Лиссе» (1965, второй режиссер — Лев Додин) по рассказам Александра Грина: здесь уже выстроена целая сценарная композиция, соединяющая разные новеллы сквозной смысловой линией, от авторского текста остаются только диалоги и монологи, все остальное уходит в действие и изобразительный ряд. Театр чтения перетекает в театр представления. К каждому автору режиссер ищет свой подход, стремится найти наиболее точное выражение: для Паустов ского — сдержанное и повествовательное, для Грина — харáктерное и динамичное.
Получить представление о поэтике литературного театра позволяют работы еще одного из первопроходцев Литдрамы — Льва Цуцульковского. В 1958-м он окончил режиссерский факультет Ленинградского театрального института, работал режиссером в омской Музкомедии. Начиная с 1961 года, после перевода в Музкомедию ленинградскую, стал делать постановки на телевидении. Вместе с Игорем Масленниковым режиссировал первые «Голубые огоньки», транслируемые из Ленинграда.
Спектакль Цуцульковского «Обещание счастья» (1965) тоже сделан по рассказам Паустовского, но поскольку он игрался в прямом эфире, то концепция его еще более строга. Семеро актеров и одна актриса стоят на пандусе павильона и рассказывают истории. Из всех выразительных средств — только музыка и сигареты. Музыкальные номера из Рахманинова исполняются тут же, вживую, пианистом и скрипачкой (даже не поименованными в титрах), а сигареты актеры вынимают из своих карманов в минуты лирических раздумий, и этот утраченный современным театром атрибут работает не хуже световой партитуры или других ухищрений. Камера на проездах постоянно трясется и спотыкается, но это не мешает насладиться пластикой композиции и мастерством актеров БДТ, тем более что в спектакле заняты редко выступающие в телетеатре Олег Борисов и Татьяна Доронина. Следующая постановка Цуцульковского — «Римские рассказы» (1965) по Альберто Моравиа — уже разыграна как полноценный спектакль, с декорациями и костюмами (итальянский колорит требует дополнительных затрат), и все же актерские личности, их мастерство по-прежнему являются стержневым, незаменимым средством выражения авторской мысли. Именно актерские работы не стареют, не теряют актуальности. Они, как чудотворный консервант, сохраняют ценность этих постановок, когда уже пожухла пленка, устарели декорации и режиссерское решение превратилось в штамп. Через актеров замысел постановщика дышит и горит, как бы раздуваемый заново новыми зрительскими поколениями.
Дина Лукова восемнадцатилетней девушкой ушла на войну, где все четыре года служила медсестрой. Была ранена, отмечена наградами, после войны с красным дипломом окончила сначала актерский, а затем режиссерский факультеты Киевского государственного института театрального искусства. Поставила несколько спектаклей в Академическом театре русской драмы имени Леси Украинки и Каменец-Подольском областном драматическом. В 1959 году по семейным обстоятельствам переехала в Ленинград и после отказов в нескольких театрах попала на телевидение. В Литдраме — с первых лет ее существования. Ее постановка пушкинской «Барышни—крестьянки» (1969) — пример еще одного виртуозного подхода к литературному театру. Текст повести здесь разбит на реплики и роздан исполнителям ролей — главных, второстепенных, эпизодических. Все они не просто произносят свою фразу в свою очередь, а живут в это время в пространстве спектакля и вза—имодействуют друг с другом через эти реплики. Кто-то флиртует, кто-то конфликтует, кто—то оспаривает, кто-то подтверждает — и все это посредством пушкинского текста, не измененного и не сокращенного. В такой режиссерской аранжировке повествование превращается в убедительный многоголосый разговор, и, даже когда заканчивается экспозиция и начинается сюжет, герои продолжают «изъясняться прозой». Получается рассказ на фоне действия; причем действие может иллюстрировать рассказ, а может выступать к нему контрапунктом, демонстрируя что-то совершенно другое. В дальнейшем Лукова не раз будет применять подобное постановочное решение, в том числе в спектаклях по прозе Пушкина — «Метель» (1972) и «Бал» (1979).
И еще одна, очень важная разновидность литературного театра — театр одного актера. В Литдраме она представлена чтецкими постановками Сергея Юрского по поэтическим произведениям Пушкина: в 1965-м он переносит на телеэкран свой моноспектакль «Граф Нулин», который уже некоторое время играет на эстраде, а в 1967-м уже специально для Литдрамы записывает восемь глав-серий «Евгения Онегина» — тридцатилетний Юрский играет роман в стихах, написанный тридцатилетним Пушкиным. Заучивая по главе в неделю для каждого прямого включения, артист получает нервный срыв. Но оба спектакля становятся со временем символами ленинградских телепостановок и входят в золотой фонд отечественного телевидения. От многосерийного «Онегина», к сожалению, остались только две первые главы, остальные не сохранились.

Э. Виторган, О. Басилашвили, Л. Штыкан, Г. Демидова в телеспектакле «Страх и отчаяние в Третьей империи». 1965 г.

Э. Виторган, О. Басилашвили, Л. Штыкан, Г. Демидова в телеспектакле «Страх и отчаяние в Третьей империи». 1965 г.
В июне 1965 года, в 20-ю годовщину окончания войны, Ленинградское ТВ показывает спектакль Карасика «Страх и отчаяние в Треть—ей империи» по пьесе Бертольта Брехта. В нем гармонично соединяются наработки литературного театра (отдельные новеллы, объединенные в целостную композицию) и театра метафорического (к которому принадлежат пьесы Брехта). Строй спектакля настолько драматургически четок и точен, что он до сих пор звучит чистым звуком, без всякой фальши. Все политическое смещено режиссером в психологическое, и потому представленные ситуации мысленно накладываются на любое тоталитарное общество и просто пугают своей типичностью. За 60 лет устарели разве что сделанные в плакатном стиле интермедии, остальное — актуально и узнаваемо до смущения. (Кстати, документальная кинокартина Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», рассказывающая об этом же, появилась на экранах в том же году.) Долгая разговорная пьеса смотрится на одном эмоциональном порыве, в чем несомненная заслуга не только режиссера, но и сильнейшего актерского ансамбля: Олег Басилашвили, Эммануил Виторган, Лидия Штыкан, Зинаида Шарко, Ефим Копелян, Владислав Стржельчик, Михаил Волков, Николай Корн, Иосиф Конопацкий.
В том же году выходит еще одна постановка по Брехту — «Жизнь Галилея» Агамирзяна. Совсем другая эпоха, другая история, но тема схожая: сопротивление индивидуума агрессивной природе толпы, выбор участи, цена истины и стоимость компромисса. Еще один неустаревающий спектакль, и еще одна роль Копеляна.
Лучшие постановки Литдрамы тем и замечательны, что со временем они становятся только глубже и благороднее. Это касается даже детективов. Зарубежные детективы в 60-е годы на Ленинградском ТВ случаются разные — то социально-обличительные, как «Доктор Солт уезжает» (1967) Юрия Маляцкого по роману Пристли, то шпионско-героические, как «Находка Траубе» (1968) М. Галиуллина по повести Яна Рудского. Но самые качественные переводные детективы поставляют телезрителям режиссеры БДТ. Возможно, с азартом погружаясь в криминальные истории из западной жизни, деятели театра, имеющего репутацию самого интеллектуального в стране, находят некую отдушину. Возможно, то, что не приветствуется высоким начальством на академической сцене, без проблем запускается здесь, в павильонах телевидения. В 1965 году Сирота экранизирует роман Сименона «Братья Рико», в 1967-м Товстоногов — «Дело по обвинению» Ивэна Хантора. Для постановок выбираются, разумеется, истории с уклоном в критический реализм, призванные не столько развлекать зрителя, сколько разоблачать пороки капиталистического строя. Но время показало, что именно такие истории и имеют долгосрочную ценность. В 1967 году Юрий Аксенов, еще один режиссер Большого драматического, ставит трехсерийный детектив «31 отдел» по роману шведского писателя Пера Валё. Комиссара Йенсона играет все тот же Копелян, рядом с ним — ведущие актеры телетруппы: Владислав Стржельчик, Олег Басилашвили, Борис Рыжухин, Людмила Макарова, Зинаида Шарко, Николай Трофимов, Изиль Заблудовский, Всеволод Кузнецов, Михаил Волков. Копеляну ужасно идет личина благородного, но мрачноватого комиссара полиции — классического героя жанра, скромного рыцаря из участка, не боящегося взять на себя ответственность и надрывающегося под невыносимой тяжестью чужих преступлений. Хочется написать, что актер играет в габеновских тонах, но это не совсем так — копеляновские тона самодостаточны, интонации не менее чарующи и стильны, а ассоциации с французским актером лишь добавляют образу шарма и обстоятельности. Комиссар Йенсен Копеляна западает в память и заслуженно вписывается в тройку самых колоритных полицейских комиссаров советского черно-белого телеэкрана, рядом с сименоновским Мегрэ Бориса Тенина и дюрренматтовским Берлахом Николая Симонова. Но главное, что «31 отдел» по своей злободневности не уступает Брехту — это не бульварное чтиво, а социально-криминальная антиутопия. Руководство богатой издательской корпорации, чтобы замести следы своих преступлений, планирует взорвать офисный небоскреб, не считаясь с жизнями людей и пуская сыщика по ложному следу. Из сегодняшнего времени история расследования прочитывается как расширяющаяся аллегория с пророческим финалом.
Литдрама 60-х годов до краев наполнена Александром Белинским, его энергией, идеями, постановками. Вездесущий и всеядный, он был удивительно независим в выборе материала и столь же непоследователен. С удовольствием ставил русскую классику, но, пользуясь репутацией комедиографа, открещивался от классики соцреализма. Из современных ему литературных светил ценил и экранизировал только Панову и Катаева — одну за человечность, другого за иронию. Он переносил на телеэкран чеховскую «Чайку», повести Гоголя, пьесы Островского, сказки Салтыкова-Щедрина и в то же время увлеченно занимался непритязательными комедиями Шкваркина, Ардова, Полякова, умудряясь даже в них задействовать таких актеров, что до сих пор смотреть не стыдно. Но самое главное — Белинскому удавалось протолкнуть то, за что еще никто на советском экране не брался. Он первым выводит на экраны телевизоров любимые романы интеллигенции — «Кюхлю» Тынянова и «Двенадцать стульев» (1966) Ильфа и Петрова, пробивает постановку пьесы Михаила Булгакова «Последние дни» (1968), протаскивает крамольно—фривольные комедии «Ноев ковчег» (1967) Исидора Штока и «Семь жен Синей Бороды» (1971) Александра Володина и даже умудряется экранизировать первую часть повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» (1965) буквально сразу после ее публикации. В 1967-м он первым ставит Хемингуэя, его спектакль «Прощай, оружие!» полон антивоенного пафоса и поколенческой скорби. В 1968-м — переносит на телеэкран рассказы Ивана Бунина, что для того времени довольно дерзко; «Темные аллеи» созданы по принципу литературного театра и состоят из трех новелл, которые разыгрывают корифеи сцены Николай Симонов и Ольга Лебзак, а рядом с ними — только вступившие на актерское поприще Алиса Фрейндлих и Евгения Уралова. В том же 1968-м он возвращается к Ильфу и Петрову и делает по их «Парижскому сценарию» стилизованную под немое кино композицию «Пять миллионов» с музыкой Чарли Чаплина — и в этой постановке уже предчувствуется жанр телевизионного балета, который Белинский изобретет девять лет спустя, работая над «Галатеей».
Белинский ставит много и страстно, по 3–5 спектаклей в год (это не считая капустников в Доме актера и сторонних работ в цирке, оперетте, театре кукол). Следствием такой гонки являются порой слишком шаблонные, а порой и небрежные постановочные ходы. Но есть во всех его неравноценных постановках неотменяемая величина — актерские работы. Он работает ради них, старается зафиксировать самых выдающихся для будущих поколений, сознавая уходящую природу театра. Будучи, по сути, не только режиссером, но и природным продюсером, своим кумирам он предоставляет возможность осуществить то, что прошло мимо них в кинематографе и на театральной сцене, выплеснуть нереализованное, довоплотиться. Этой идеей фикс он заражает всех коллег по телетеатру, делает ее целеполаганием и предугадывает тем самым историческое значение Литдрамы. Благодаря ему входят в анналы телетеатра работы Юрия Толубеева, Василия Меркурьева, Николая Черкасова, Владимира Честнокова, Константина Скоробогатова, Павла Луспекаева, Павла Панкова, Константина Адашевского, Евгения Лебедева, Николая Трофимова, Игоря Горбачева, Лидии Штыкан, Гликерии Богдановой-Чесноковой, Татьяны Пилецкой, Николая и Сергея Боярских и десятков других выдающихся мастеров ленинградской сцены.
Сергей Юрский становится та—лисманом Белинского, а с его легкой руки — и всего Ленинградского телетеатра. После «Кюхли» он играет в его постановках самые разные роли, большие и маленькие, классические и проходные, — «Бешеные деньги» Островского, «Дон Кихот ведет бой» Коростылева, «Принц Наполеон» Шкваркина, «Госпожа министерша» Нушича, «Идеалистка» Володина, композиция о Комиссаржевской «Чайка русской сцены»… Любимым спектаклем режиссер считал одноактную фантазию Бернарда Шоу «Смуглая леди сонетов» (1966), в которой Юрский исполнил роль Шекспира, а его партнершами были Наталья Тенякова и Эмма Попова. В этом спектакле впервые применен прием явного обращения актеров в камеру: в процессе диалога герой вдруг отворачивался от своего собеседника и адресовывал свои слова напрямую к телезрителю. Сейчас такое кажется общим местом, но по тем временам было новым и необычным; в камеру, как правило, смотрели дикторы или журналисты, но в драматических спектаклях актеры соблюдали дистанцию, не разрушали четвертую стену. Прием, заимствованный у чтецов и артистов юмористических программ, где такое дозволялось, оказался очень выразительным и телегеничным по своей природе, прижился и стал частью поэтики телевизионной драмы.
Одна из главных постановок Белинского — «Обломов» (1965) по роману Гончарова. Режиссер не столько рассказывает в ней историю помещика Ильи Ильича, сколько раскрывает подоплеку понятия «обломовщина». Неспроста Штольц в исполнении Волкова по ходу действия несколько раз нарочито и с назиданием произносит это слово. Но режиссер не внемлет нравоучительному тону Штольца и как бы отделяет Обломова от обломовщины, показывает их нетождественность, а затем описывает симптомы проникновения болезнетворного явления в несопротивляющийся организм. Басилашвили, уже успевший сыграть эту роль в театре, в изображении героя точен и беспощаден, его Обломов вызывает разнонаправленные чувства, он жалок и трагичен, обаятелен и отвратителен. У современного зрителя Басилашвили и эта разнонаправленность невольно рождают параллели с володинским Бузыкиным из «Осеннего марафона» Георгия Данелии. В искусстве не бывает случайностей и все совпадения, даже задним числом, транслируют зрителю некую идею, и в случае с Басилашвили вдруг становится очевидным, что герои Гончарова и Володина как бы имеют общую родовую основу, это схожий тип, очень понятный и очень знакомый жителю любого из последних столетий — от XIX до XXI. Правда, в XIX веке он лежит и бездействует, а в XX — постоянно бегает и наполняет свое существование всяческой суетой, но причины и результат — одни и те же: желание быть хорошим для всех, боязнь перемен, невозможность поступка, невыносимость бытия. Белинскому и Басилашвили удается передать преемственность типа и увидеть в нем нашего современника, соседа, приятеля, самого себя.
Еще один значительный тип русской классической литературы — Иудушка Головлев — представлен в спектакле Маляцкого «Господа Головлевы» (1969). И снова острота постановки связана с узнаванием героя, с вневременной актуальностью характера, разрушающего все живое вокруг себя, своими правилами и заботами сеющего смерть, прикрывающего эгоистическую сущность самыми высокими словами и самыми благородными мотивами. Михаил Храбров играет своего героя без гротеска и преувеличения, его Порфирий Головлев — вполне себе обычный благопристойный и набожный человек, — но обычный до безликости, набожный до опустошения смысла. Появляясь невзначай, как бы сбоку от основного действия, почти из массовки, он постепенно затмевает всех остальных героев и заполняет своей претенциозной посредственностью все экранное пространство и время.
Надо сказать, что постановки классического репертуара по режиссерским решениям являются, как правило, умеренно-традиционными, носят иллюстративный характер. Культ русской литературы и преклонение перед учением Станиславского будто сковывают режиссерам руки и парализуют фантазию. «Месяц в деревне» (1968) Маляцкого по Тургеневу, «Расточитель» (1966) Копеляна по Лескову, «Годы странствий» (1968) Горбачева по Арбузову еще полны этого чистосердечного придыхания. Поэтому все открытия новых приемов и возможностей появляются из освоения неизведанных для телетеатра территорий — границы привычных форм раздвигаются жанровыми постановками.
В 1965-м появляются «Понедельник начинается в субботу» Белинского по братьям Стругацким и «Большая кошачья сказка» Карасика по Карелу Чапеку — легкие и остроумные постановки, современные комедии-сказки для взрослых, приправленные актерскими находками и импровизациями, не претендующие на глубины академизма, но и не опускающиеся до уровня ширпотреба. Очень театральные и очень телевизионные. И если «Понедельник» выглядит сейчас как неудавшийся эксперимент, полукапустник с непонятным посылом, то «Кошачья сказка» до сих пор способна удивлять сбалансированностью настроений и парящей актерской легкостью: Юрский и совсем юная Тенякова, как добрые духи телетеатра, перемещаются по нарисованной на полу павильона карте сказочного города, танцуют танго и наслаждаются чапековской прозой.

С. Юрский, Н. Тенякова, Э. Попова в телеспектакле «Смуглая леди сонетов». 1966 г. Фото из книги А. Белинского «Старое танго»
Еще одна заметная персона Литдрамы — режиссер и драматург Иван Рассомахин. Окончив после войны актерский факультет ГИТИСа, работал в Таллинском драматическом, затем в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола; параллельно — и в Таллине, и в Ленинграде — руководя им же созданными театральными студиями. Написал несколько пьес. На телевидение попал в начале 60-х, любил экспериментировать с жанрами, искал новые формы. Первым стал делать спектак—ли-расследования: «Непобежденный узник» (1967), посвященный суду над Чернышевским, и «Баллада о Красном капитане» (1971) — история мятежного моряка Александра Зузенко. Ставил музыкальные и поэтические спектакли. И одним из первых на телевидении взялся за фантастику. Два любопытнейших спектакля делает Рассомахин в сере—дине 60-х.

С. Юрский, Э. Попова в телеспектакле «Смуглая леди сонетов». 1966 г. Фото из книги А. Белинского «Старое танго»
«Верный робот» (1965) Станислава Лема — юмористическая фантастика, утопия-гротеск. Здесь в полную силу проявляется комическая, даже клоунская сторона дарования Юрского, играющего хитроумного и хладнокровного домашнего робота, обводящего вокруг пальца своего непрактичного хозяина, писателя, которого не менее выразительно играет Стржельчик. Конструктивистские декорации, использование теней и отражений, выразительные силуэтные интермедии — все это выделяет постановку из обычного ряда. И хотя эта комедийная антиутопия была сделана 60 лет назад и будущее в ней выглядит несколько архаичным и сильно выцветшим, авторский посыл до сих пор актуален, шутки современны, проблематика звонко резонирует с сегодняшним днем. Архаичность даже добавляет постановке обаяния — перед нами эдакое сказочное анти-ретро, в котором непонятно, кто над кем потешается: прошлое над будущим, будущее над настоящим? Или — фантазия над реальностью?
«Вопреки уравнениям» (1968) Индржишки Сметановой — пьеса совсем другого плана. Фантастика тут вынесена за скобки, она является лишь катализатором ситуации. Банальный, казалось бы, сюжет: вечерние посетители пражского кабачка, люди самых разных профессий и мировоззрений, застигнуты врасплох сообщением о прибытии инопланетян. Но авторам удается этот этюд сделать психологически точным, напитать его живыми характерами и судьбами (многие завязаны на реалиях Второй мировой войны), перешагнуть локальность истории и выйти на уровень разговора, который не просто актуален по сей день, но именно сейчас, в наше время, приобретает особою остроту.
В 1965-м работники художественной редакции переживают череду потрясений. Им предшествует потрясение, пережитое в 1964 году всей страной, — отстранение Хрущева, обозначающее окончательное свертывание оттепельных процессов и возвращение к цензуре. Литдрама выпускает в эти дни первый снятый на ее базе полнометражный телевизионный фильм — «Я — шофер такси» Цуцульковского по сценарию Владимира Кунина с Копеляном в главной роли. Начальство — то ли из Смольного, то ли из самой Москвы — обвиняет создателей фильма в «принижении героической роли ленинградцев» и трактует произведение как «идеологическую диверсию». (В 1976 году на Киностудии им. Горького режиссер Борис Роговой по тому же сценарию снял фильм «Горожане» — лирическая повесть о буднях старого таксиста; ничего крамольного в нем нет.) Достается директору студии Фирсову и редактору фильма Масленникову. После персональных разбирательств оба они покидают свои должности и уходят с телевидения. Вскоре увольняют редакторов Бетти Шварц, Розу Копылову, Ирину Муравьеву, с именами которых связан расцвет Ленинградского телевидения. По свидетельству очевидцев, обвинения были выдвинуты надуманные — просто пришло время сменить руководство студии, новая эпоха требует новой номенклатуры.
Перемена начальства пока не сильно отражается на внутреннем климате Литдрамы, жизнь творцов идет прежним чередом, пока без чувствительных поправок. Но некая настороженность появляется в воздухе и эфире. Новым директором назначен Борис Марков, работавший до этого главредом газеты «Вечерний Ленинград», — человек еще более демократических воззрений, чем Фирсов, не особо считавшийся с указаниями начальства. Благодаря своим качествам он продержится на этой должности недолго, но это позволит Литдраме еще некоторое время выполнять свою культурную миссию без оглядки на мнение идеологических надсмотрщиков.
В 1967 году город отдает Ленинградскому телевидению историческое здание Каменноостровского театра. Когда-то это был памятник деревянного зодчества, построенный в эпоху классицизма, теперь он перестроен, оборудован всем (или почти всем) необходимым, и в нем официально располагается Телевизионный театр Ленинградской студии телевидения. Отныне у Литдрамы есть свой адрес и своя сцена. К этому времени формируется и неформальная, но постоянная актерская труппа Литдрамы: Сергей Юрский, Ефим Копелян, Павел Луспекаев, Михаил Волков, Лидия Штыкан, Эмма Попова, Владислав Стржельчик, Олег Басилашвили, Нина Василькова, Кирилл Лавров, Николай Трофимов, Георгий Штиль, Николай Боярский, Павел Панков, Нина Ольхина, Анна Лисянская, Борис Рыжухин, Всеволод Кузнецов, Наталья Тенякова, Алиса Фрейндлих, Иван Краско, Михаил Данилов, Игорь Дмитриев, Михаил Храбров, Александр Соколов, Михаил Девяткин, Изиль Заблудовский, Владимир Татосов, Людмила Макарова, Григорий Гай, Виктор Костецкий, Сергей Коковкин, Валерий Караваев, Тамара Коновалова, Ростислав Катанский, Сергей Дрейден, Владимир Тыкке и др.
А Белинский тем временем из телетеатра временно сбегает и пускается еще в одно первопроходческое предприятие — ставит гоголевскую повесть «Записки сумасшедшего» в формате телефильма. Стилистически это тот же телевизионный спектакль, но снимается он на пленку, с натурными эпизодами, монтажом, крупными планами. Такое уже бывало в Литдраме — «Очарованный странник» Ермакова и «Гром на улице Платанов» Товстоногова сделаны как телефильмы, но исключительно в павильонах и декорациях; Белинский же выводит действие на улицу, операторы Владислав Виноградов и Леонид Волков снимают в петербургских дворах, в пространствах кирпичных колодцев и крошечных окон — и операторское решение придает телевизионной постановке кинематографическую пластичность и динамику. Композитор Надежда Симонян пишет для фильма оригинальную музыку. Постановка, правда, слишком коротка для фильма, даже телевизионного: она идет меньше часа; но в этом, надо полагать, режиссер вновь оказался на шаг впереди всех — предугадал телеформат будущего, когда на передачу отпускается 52 минуты, а оставшиеся 8 бронируются для рекламы. В этой постановке Белинский как бы прощупывает возможности синтеза телетеатра с кинематографом, еще не очень понимая специфику такой алхимии и не всегда соблюдая пропорции, — отсюда проистекают и плюсы, и минусы постановки. Но в целом фильм удается и даже получает положительные отзывы кинорежиссера Григория Козинцева, который в те годы как раз обдумывает постановку «Гоголиады».
А роль Поприщина становится, возможно, самой удачной киноработой Евгения Лебедева, опять же потому, что по методу она все же — театральная. На фестивале телевизионных программ в Монте-Карло «Записки сумасшедшего» получают приз «Золотая Нимфа» за лучшую режиссуру (1967).
После такого международного успеха телевизионного фильма на Ленинградском телевидении открывается творческое объединение «Лентелефильм» — почти студия, но не самостоятельная, а как бы филиал Литдрамы, предназначенный специально для съемок фильмов — документальных, игровых, музыкальных. Объединение начинает работать в самом начале 1968 года, создают его Белинский, Цуцульковский, Юлиан Панич, режиссер и оператор Владислав Виноградов, документалисты Александр Стефанович и Константин Артюхов, редактор Лидия Алешина. Черно-белый фильм «Проводы белых ночей» (1969) Панича по пьесе Пановой определяет эстетику и тональность игровых картин новой студии. Но многие из постановок «Лентелефильма», хоть и считаются отныне фильмами, надолго сохранят наследственные черты своих телетеатральных сородичей, так что есть все основания упоминать их здесь на правах телеспектаклей.
В 1968 году в Ленинграде запускается цветное вещание, жить становится лучше и веселее (во всяком случае, в телевизоре), а вот идеологическое давление становится все сильнее, закрываются последние форточки возможностей. В том же 1968-м ленинградская телебашня прекращает транслировать программы на всю страну. Лен ТВ становится городским каналом, аудитория Литдрамы локализуется.
Происходят некоторые изменения и в качестве самих постановок. К концу шестидесятых усваиваются технические приемы, появляется опыт, накатанность, и, как изнанка этих положительных процессов, — спектакли как бы становятся на поток. Все чаще на экране появляются длинные двухсерийные экранизации, иллюстрирующие классику, но не добавляющие ничего нового ни в трактовку первоосновы, ни в форму ее подачи. Особенно утомляют многочисленные интерпретации произведений Горького — «Жизнь Матвея Кожемякина» Сорокиной, «Зыковы» Сулимова, «Перед бурей» («Последние») Ермакова, «Чудаки» Маляцкого — все вышли в 1968 году. На этом монотонном фоне заметно выделяется теледебют Владимира Воробьева «Пер Гюнт» (1968). Большая драматическая поэма Ибсена вмещена режиссером в визуальную емкость одного с четвертью часа — идеальное время для классики, чтобы не успела наскучить, — и цепко переплетена с музыкой Грига, когда-то давшей ей вторую жизнь. Долгие подвижные планы здесь не просто фиксируют мизансцену, но передают и усиливают ее экспрессию и пластику, заменяют драматургию монтажа драматургией мизансцены. Редкий кинофильм может потягаться по наполненности и ритму длинных планов с этой постановкой. Иван Краско, представляющий своего героя в нескольких возрастах и ипостасях, играет эмоционально и одержимо. Ко всему прочему в заключительной части возникает — вполне гармонично — элемент осовременивания, иронического переосмысления хрестоматийного сюжета, а техническое решение этой постановочной находки достойно еще одной номинации. Воробьев, работавший тогда в Театре Ленинского комсомола, не снимал больше телеспектаклей, но стал впоследствии главрежем Театра Музкомедии и очень толковым кинорежиссером, создавшим такую классику жанрового телекино, как «Свадьба Кречинского», «Труффальдино из Бергамо», «Остров сокровищ», — тем интереснее сегодня смотреть первую его телеработу и не просто угадывать, но видеть в ней потенциал будущего мастера.
Самые интересные, захватывающие вещи в телепостановках происходят тогда, когда театр берет верх над кинематографом, когда есть не только объектив телекамеры, но и неожиданное метафорическое решение, не подробно прорисованное жизнеподобие, а лаконизм символа. Таких находок и открытий довольно много в черно-белых постановках 60-х. В спектакле Карасика «Кориолан» (1968) по трагедии Шекспира батальные сцены римских сражений решены с помощью стоп-кадров: сменяющие друг друга «слайды» застывших в экспрессивных позах вооруженных воинов создают точное впечатление смертельной битвы, не смакуя при этом кровавые подробности и не создавая в павильоне нелепую свалку. В его же, Карасика, постановке «Кровавая свадьба» (1967) по драме Лорки атмосферу напряжения создает строгое графическое решение спектакля, существующее контрапунктом страстной испанской природе произведения; Нина Василькова, играющая главную роль матери, смотрится здесь знаком, полным внешней статичности и внутреннего напряжения. А вот «Зависть» (1967) Сулимова по роману Олеши: сцены действия решены здесь сменой почти статичных, но четко выверенных композиционно кадров-мизансцен. В этом спектакле, как и в других телеработах режиссера, вообще много заметных операторских моментов, скомпонованных по-киношному кадров и сцен. Любопытно, что именно практикующие театральные режиссеры делают много полезного для адаптации кинематографической эстетики к телетеатру. Так, динамичный, почти рубленый монтаж эпизодов применен Львом Додиным в спектакле «Первая любовь» (1966) по повести Тургенева — этот прием проглатывает ремарки и сразу погружает зрителя в центр мизансцены, он как будто бросает вызов общепринятому темпоритму телевизионных постановок и подгоняет их к новой скорости изложения. В спектакле Георгия Никулина «Три года» (1968) по повести Чехова неожиданным образом интерпретируется роль рассказчика: выступающий от имени автора Михаил Волков заходит в сцены прямо на глазах героев, взаимодействует с ними и рассказывает о событиях с точки зрения не автора повести, а, скорее, сегодняшнего читателя. Голос от автора превращается здесь в голос от зрителя.
В 60-е телетеатр превратился в самостоятельный вид искусства, выработал свои средства самовыражения, свои принципы работы с литературным материалом, освоил технические возможности. В обиход студии входит магнитная видеозапись программ, и постановки теперь транслируются в записи.
Первое, черно-белое, десятилетие театра заканчивается двумя спектаклями, ставшими впоследствии легендарными. Но появлению одного из них сопутствует громкий успех, а другого — тихий скандал.
Первый — это «Мертвые души» по поэме Гоголя, трехсерийная постановка Белинского. Секрет ее успеха обманчиво прост: искусный сценарий Розы Копыловой, замешенный на великой неразгаданности гоголевского текста, соединяется здесь с безупречным подбором актеров: Леонид Дьячков — от автора, Игорь Горбачев — Чичиков, Олег Басилашвили — Манилов, Юрий Толубеев — Собакевич, Александр Соколов — Плюшкин, Клавдия Фадеева — Коробочка, а также Николай Боярский, Константин Адашевский, Михаил Данилов, Светлана Карпинская, Алексей Петренко… Что туда еще подмешал Белинский — навряд ли он сам знает. Вероятно, огромную любовь — к Гоголю, актерам, зрителям. «Мертвые души» становятся визитной карточкой Ленинградского телетеатра еще и потому, что, в отличие от большого количества других спектаклей, их хоть изредка, но все же показывали по телевизору в семидесятые и восьмидесятые годы. Не выдерживающая технической конкуренции с другими экранизациями, постановка Белинского тем не менее давала фору пресноватой мхатовско-булгаковской киноинсценировке («Мосфильм», 1960, режиссер Леонид Трауберг) и, даже когда появился пятисерийный телефильм Михаила Швейцера («Мосфильм», 1984), продолжила существовать с ним на равных, то проигрывая в целостности художественной конструкции, а то и выигрывая — в емкости и интуитивности. Эмоциональным ядром спектакля становится образ Ноздрева в исполнении Павла Луспекаева. Роль настолько совпала с актером, что произошел большой художественный взрыв, создавший новую вселенную. Луспекаев так и остался для нескольких поколений сероватым посверкивающим стоп-кадром с выпученными от бесстыдства глазами и частоколом хищных зубов.
Луспекаев — самородок Литдрамы, актер—находка. Сыгравший Шекспира («Человек из Стратфорда») и Аркадия Гайдара («Двадцать седьмой неполный»), он существовал между этими двумя типажами, воплощающими очень разные мифы героики. Но находил и другую ноту — ироническую, даже комедийную — и ею спасался от пафоса и фарисейства. Именно она и делала его актерское лицо индивидуальным и всепобеждающим, давала объем и широту диапазона. Благодаря этой ноте в своего Ноздрева он уместил все и всех, в том числе и Шекспира с Гайдаром, и Андрея Бабичева с Матвеем Кожемякиным, и Верещагина с его кинобаркасом, да и всю гоголевскую поэму заменил одним своим выходом, предельно сократив дистанцию от ее зерна до зрителя, — смотришь на этого Ноздрева и думаешь: Русь, куда ж несешься ты?
А Русь неслась — не остановить. Это видно по истории второго знакового спектакля 1969 года — «Смерть Вазир-Мухтара» по роману Тынянова в постановке Розы Сироты и Владимира Рецептера, сыгравшего Грибоедова, главную роль. Спектакль создан был как бы в развитие темы и стилистики «Кюхли», только Юрский на этот раз играл Пушкина, роль небольшую, но важную. Впрочем, здесь все роли второго плана небольшие, но важные. Список исторических действующих лиц как будто становится вдвое весомее, дополненный исполнителями ролей: Чаадаев — Стржельчик, Трофимов — Булгарин, Тенякова — Булгарина, Медведев — Николай I, Татосов — Нессельроде, Дрейден — Сенковский, Гай — Аделунг, Рыжухин — Рудофинкин, Галина Микрюкова — Нина Чавчавадзе, Лебедев — Паскевич, Панков — Сипягин, Копелян и Кузнецов — персидские ханы. Экранизация второго романа Тынянова вызвала некоторое оживление в кругах интеллигенции еще до премьеры. Рецептер, как когда-то Юрский, уже успел громко заявить о себе в постановках БДТ; еще будучи актером Ташкентского драмтеатра он сыграл Раскольникова и Гамлета, а затем, приглашенный Товстоноговым в БДТ, ввелся на роль Чацкого. Узел затянулся — еще один Чацкий должен был появиться на экране телевизоров и насытить эфир очередной инъекцией дерзкого вольнодумства. Но времена уже стояли не те, 1969-й одет был совсем в иные одежды, нежели 1963-й, и сшиты они были не по размеру — жали и резали. И готовый к эфиру спектакль был запрещен.
Произошло это вроде бы случайно. Глупое совпадение: как раз в тот день, на который была заявлена в программке премьера «Вазир-Мухтара», министр иностранных дел Подгорный прибыл с дружественным визитом в Иран. Кто-то из зорких и придирчивых бюрократов забил тревогу: а не вызовет ли спектакль о российском дипломате, убитом коварными персами, осложнений в советско—иранских отношениях? И все — премьера отменена, спектакль положен на полку. Но положение не меняется и тогда, когда встреча в верхах завершилась и иранская тема ушла из повестки дня. Видимо, были и другие причины — спектакль нежелателен. Долгие мытарства постановщиков, письма в высокие инстанции, подписанные известными деятелями культуры, не принесли результатов. В конце концов высочайше разрешен один закрытый кинопоказ в московском Театральном музее, с ограниченным и заранее утвержденным списком гостей. В этом нелепом списке — Виктор Шкловский, Вениамин Каверин, Наум Коржавин, Станислав Рассадин, Ираклий Андроников, Валентин Непомнящий. Но остальные несколько миллионов потенциальных зрителей спектакля так и не увидят.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОСМОТРУ: 1960-е
Кюхля. 1963. По роману Ю. Тынянова. Реж. А. Белинский.
Зима тревоги нашей. 1963. По роману Дж. Стейнбека. Реж. Р. Сирота.
Страх и отчаяние в Третьей империи. 1965. По пьесе Б. Брехта. Реж. Д. Карасик.
Жизнь Галилея. 1965. По пьесе Б. Брехта. Реж. Р. Агамирзян.
Римские рассказы. 1965. По рассказам А. Моравиа. Реж. Л. Цуцульковский.
Обещание счастья. 1965. По рассказам К. Паустовского. Реж. Л. Цуцульковский.
Обломов. 1965. По роману И. Гончарова. Реж. А. Белинский.
Граф Нулин. 1965. Поэму А. Пушкина читает Сергей Юрский. Реж. С. Юрский.
Верный робот. 1965. По пьесе С. Лема. Реж. И. Рассомахин.
Корабли в Лиссе. 1965. По рассказам А. Грина. Реж. Д. Карасик, Л. Додин.
Понедельник начинается в субботу. 1965. По повести А. и Б. Стругацких. Реж. А. Белинский.
Большая кошачья сказка. 1965. По сказке К. Чапека. Реж. Д. Карасик.
Двенадцать стульев. 1966. Главы из романа И. Ильфа и Е. Петрова. Реж. А. Белинский.
Золотая роза. 1967. По повести К. Паустовского. Реж. Д. Карасик.
Зависть. 1967. По роману Ю. Олеши. Реж. М. Сулимов.
Прощай, оружие! 1967. По роману Э. Хемингуэя. Реж. А. Белинский.
Евгений Онегин. 1967. Роман А. Пушкина читает С. Юрский. 1 и 2 главы. Реж. С. Юрский.
Смуглая леди сонетов. 1967. По пьесе Б. Шоу. Реж. А. Белинский.
31 отдел. 1967. По роману П. Валё. Реж. Ю. Аксенов.
Кориолан. 1968. По пьесе У. Шекспира. Реж. Д. Карасик.
Последние дни. 1968. По пьесе М. Булгакова. Реж. А. Белинский.
Жизнь Матвея Кожемякина. 1968. По роману М. Горького. Реж. И. Сорокина.
Темные аллеи. 1968. По рассказам И. Бунина. Реж. А. Белинский.
Пер Гюнт. 1968. По пьесе Г. Ибсена. Реж. В. Воробьев.
Вопреки уравнениям. 1968. По пьесе И. Сметановой. Реж. И. Рассомахин.
Барышня-крестьянка. 1969. По повести А. Пушкина. Реж. Д. Лукова.
Господа Головлевы. 1969. По роману М. Салтыкова—Щедрина. Реж. Ю. Маляцкий.
Смерть Вазир-Мухтара. 1969. По роману Ю. Тынянова. Реж. Р. Сирота, В. Рецептер.
Мертвые души. 1969. По поэме Н. Гоголя. Реж. А. Белинский.
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ — 70–80-е ГОДЫ ЛИТДРАМЫ:
Тем временем в Детской. —
«Фиеста» и другие отмененные праздники. —
«Два веронца» и один «Жаворонок». —
Стертые, смытые, отключенные. —
Театр без героя. —
«Человек-невидимка» и другие спецэффекты. —
Скромное обаяние малобюджетности. —
Натура против павильона. —
Последний Горький. —
Детективная эпидемия.











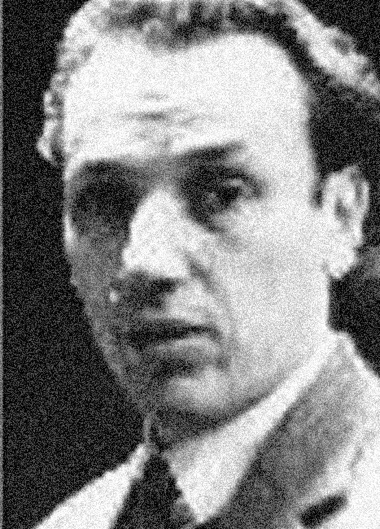
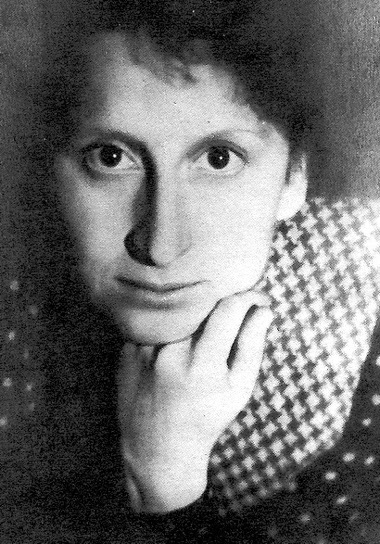
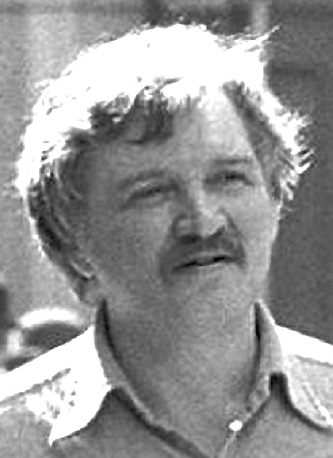








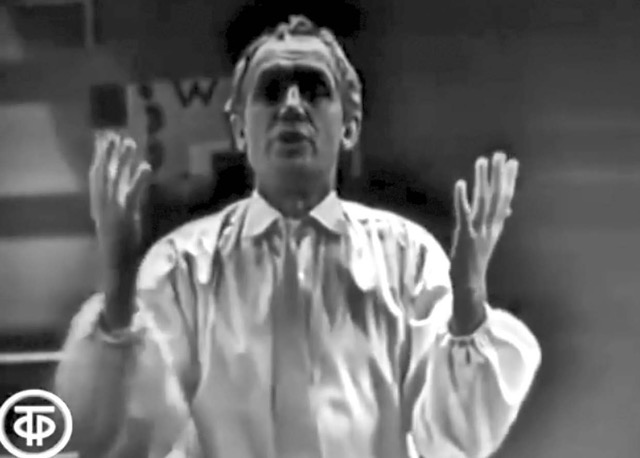






















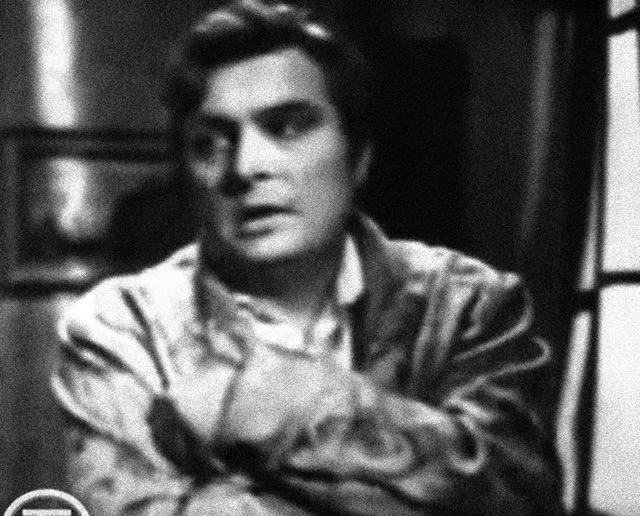



Комментарии (0)