Формулируя тему молодежного номера, мы пришли к выводу, что говорить только о травме не совсем верно. Травма несет в себе след пережитой жестокости и потенциал будущего исцеления. Жестокость — травма — исцеление. Кажется, такой сюжет в разных плоскостях может быть близок театру. Об этом молодежная редакция и решила поговорить с режиссерами.
Возможна ли жестокость как художественный прием?
Используете ли вы личный травматический опыт как материал для своего творчества? Это для вас проработка травмы или рефлексия?
Способно ли искусство избавить человека от травмы?
АЛЕКСАНДР САВЧУК, РЕЖИССЕР
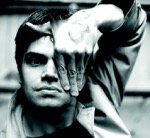
1. Если жестокость в понимании Арто или Эйзенштейна, то, конечно, возможна и даже необходима. То есть жестокое отношение к территории зрительского комфорта, нарушение его ожиданий и сонного автоматического восприятия — это установка всего современного искусства.
Если речь о насилии над телом или личностью в процессе театрального действия, то я противник этого. Я люблю читать про венских перформеров или Абрамович, но быть участником не хотел бы. Тут очень тонкая грань между исследованием и личной перверсией автора. В целом ведь гладиаторские бои тоже были видом искусства в свое время, там были сложные декорации, использовались мифологические сюжеты и т. д. Но в дальнейшем развитии театра слова «…на сцену шлет раба» — это все же метафора. А метафорой мы и живы до сих пор среди всего этого ужаса.
2. Скажем так — спектакли «Два Лазаря» и «СиНфония № 2» сделаны как отживание опыта черепно-мозговой травмы в буквальном смысле. Но это не терапия, а, скорее, осмысление экзистенциального опыта, данного этим событием неожиданного умирания. Ну, и религиозные поиски вследствие этих событий.
Но что касается психологических травм, то терапевтировать их лучше все-таки со специалистами. В творческом процессе, на мой взгляд, они скорее являются опытом пребывания в кульминационных точках реальности, которые дают ресурс для осмысления. Но тут важно не стать расцарапывателем собственных корост. Это, как правило, выглядит провинциально и пахнет дешевым алкоголем.

3. Повторюсь — искусство не есть психотерапия. Это все-таки разные области культуры. Хотя иногда это может совпадать, но, скорее, не по умыслу. Если совпадает, то отлично. Существуют арт-терапевтические практики, театр как инклюзивное пространство и т. д. Но это не прямые его задачи, а некоторые из них. Хотя знать бы, каковы его прямые задачи…
СЕРГЕЙ АЗЕЕВ, АКТЕР И РЕЖИССЕР
1. Безусловно да, когда это работает на художественное решение.
2. Без этого опыта вовлеченность в процесс и результат, на мой взгляд, будет недостаточно полноценной. Для меня это проработка травмы, рефлексия с помощью юмора.
3. Избавить — нет, а вот дать верный ракурс для взгляда на нее и последующей проработки точно может.
ПЕТР ШЕРЕШЕВСКИЙ, РЕЖИССЕР
1. Да. Важно сталкивать себя и зрителя с неудобными проявлениями жизни, чтобы пытаться осмыслить их.

2. Использую. Свой, интимный. И общий, социальный. Стараясь спрятать «концы в воду», так, чтобы внешне, для зрителя, эта травма была присвоена и осмыслена персонажем, а не мной, автором. Разницы между проработкой травмы и рефлексией не вижу. На мой взгляд, это синонимы.
3. Не знаю… Это вопрос к психотерапевту. Искусство, в идеале, когда происходит совпадение, сталкивает зрителя с болезненными переживаниями собственной жизни, с собственным опытом через ассоциации и эмпатию. Это повод для рефлексии. Но способна ли рефлексия «избавить от травмы» — я не знаю.
ДМИТРИЙ КРЕСТЬЯНКИН, РЕЖИССЕР
1. Парень по имени Антонен что-то писал про это (на самом деле не про это), но я не очень в этом разбираюсь. Наверное, для меня нет. Хотя сперва стоит разобраться, что мы подразумеваем под этим понятием.

2. Не очень знаю, что такое проработка травмы и что такое рефлексия, чем они отличаются, тоже не разбираюсь. Думаю, каждый, что бы он ни делал, всегда основывается на личном опыте разной степени травматичности.
3. Избавить в значении «предотвратить», наверное, нет, избавить в значении «исцелить», то есть в абсолютном понимании, — наверное, тоже нет. Но, с другой стороны, когда к ранке подорожник прикладываешь, как-то полегче становится.
АРТЕМ ЗЛОБИН, РЕЖИССЕР
1. Жестокость — это часть нашей жизни, к сожалению, поэтому, конечно, если мы рассматриваем театр как некоторое отображение жизни, как какую-то призму, через которую мы не иллюстрируем, а пытаемся найти художественный эквивалент чего-то из нашего сегодняшнего мира, то, конечно, она возможна. Тем более есть разные способы взаимодействия и влияния на зрителя, поэтому, конечно, это один из них. Главное, чтобы это имело какую-то смысловую нагрузку.

2. Только его и используем!
Это и проработка, и рефлексия. Конечно, я стараюсь делать спектакли про то, что у меня самого болит. Иначе в этом не было бы меня и каких-то моих болевых точек. Про проработку — вопрос.
Да, я отношусь к театру как к терапии, но все-таки, как показывает жизнь, она кратковременна.
3. Хочется верить, что способно, но я сомневаюсь. Я буду рад, если человек после моего спектакля хоть немного поменяется и ему станет легче, но избавление — достаточно трудный процесс, поэтому такую ответственность брать на себя я боюсь. Но повторю: если для кого-то спектакль станет чем-то поворотным, значит, все не зря.
АЛЕКСАНДР СОКУРОВ, КИНОРЕЖИССЕР

1. У каждого автора свои принципы, свои силы для самовыражения.
У каждого автора свои принципы в отношениях с гуманитарной ересью.
Жестокосердное изложение художественного повествования для меня невозможно по определению.
2. Травматичным является само общение со своими соотечественниками. Мои личные переживания, боли никогда не были проводниками на пути формирования художественной ткани.
Моя жизнь никак не рефлексируется в произведениях, над которыми работаю.
Только общегуманитарные сюжеты.
3. Мне кажется, жизнь как таковая очень опосредованно связана с искусством.
Особенно жизнь современных русских людей.
Искусство — родничок.
Жизнь — горная река.
Искусство может усилить боль душевную, но ничего не сделает для ее успокоения.
ДМИТРИЙ МУЛЬКОВ, РЕЖИССЕР
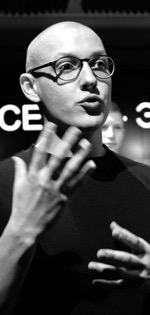
1. Думаю, да. Российский акционизм девяностых и нулевых — тому пример.
Вообще, я думаю, есть такие темы, которые без жестокости (как раз в смысле художественного приема) просто не вскрыть — так что жестокость не только возможна, но и нужна. Как без нее обойтись в работе над текстами Хайнера Мюллера, например?
2. Думаю, что мой личный травматический опыт — часть коллективного. Страх и ощущение бессилия, с которыми я живу, — это же нечто сформированное нашим обществом, результат разного рода социальных и политических катаклизмов. С этим, конечно, нужно работать, в том числе с помощью искусства.
Мечтаю когда-нибудь сделать как Тарантино в «Бесславных ублюдках» или в «Однажды в Голливуде» — переиграть исторические события, повернуть время вспять, чтобы что-то из того, что произошло в реальности, никогда не происходило. Или, наоборот, чтобы что-то из того, что, к сожалению, не случилось в истории, — случилось на сцене. Думаю про жестокую и красивую сцену с расстрелом Гитлера в «Бесславных ублюдках» — вот это проработка травмы, да.
И еще я думаю, что без рефлексии проработка травмы невозможна, здесь нет противоречия.
3. Избавить человека от травмы не способно ничто, мне кажется, даже самая продвинутая терапия. Но это не значит, что терапия не нужна, как-то ведь надо справляться с болью.
Я думаю, искусство тоже может помочь.
Я знаю, что если мне захочется плакать, если мне будет больно — мне будет легче плакать под песню Videotape или под песню Motion Picture Soundtrack группы Radiohead. А если меня накроет тоска — мне будет легче справиться с ней, слушая музыку Маноцкова (а еще лучше — распевая ее).
А еще я знаю, что если я сам напишу музыку или поставлю спектакль, не суть, и у меня в результате получится приобщить других людей к своему переживанию, получится разделить его вместе с ними (поплакать, например, всем залом), то это такая радость! А как без радости?
ЮРИЙ БУТУСОВ, РЕЖИССЕР
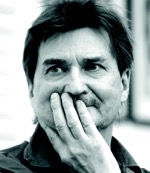
1. Для меня — нет.
2. Не использую, но, безусловно, когда делаешь спектакль, говоришь о своих собственных мыслях, чувствах, болезненные переживания тоже выливаются в спектакль, но не для того, чтобы их изжить. Для проработки травм я свои спектакли не использую.
3. Я не знаю. То, что искусство помогает жить и спасает человека, может спасти, это я знаю. А лечит ли от травмы, не знаю. Слышал, что есть театр как психотерапия, такой тип театра, но я не верю, что это возможно. Театр может вскрыть в человеке скрытые болезни, травмы, а вылечить — нет. Если только не думать, что вскрытие и есть лечение. А так — нет: театр не лекарство.
АРТЕМ ТОМИЛОВ, РЕЖИССЕР

1. Если есть договор со всеми сторонами участия, то да. Существует много коммерческих квестов, где взаимодействие с посетителями происходит на грани добра и зла и клиенты буквально идут на это. Короче, вопрос легитимирующей рамки и ее прозрачности.
2. Да, бывает, использую. Проработка и рефлексия неразрывно связаны, поэтому все сразу. Но давайте отметим, что использование травм — это источник драматургии, струящийся для других в той же степени, что и для себя, поэтому лучше не говорить о таком локально, все работает по классике комплексно.
3. Все в жизни возможно, нужны соответствующие подход и контекст.
НАСТЯ БЫЦАНЬ, РЕЖИССЕР

1. Эта концепция мне не близка. Я убеждена, что искусство должно начинаться с любви. Конечно, у всех нас разное понимание этого слова, но, думаю, если мы начнем описывать свои ощущения от него, то найдем много общего. Там будет и приподнятое настроение, и пресловутые «бабочки в животе», и ощущение, что горы можешь свернуть, но вряд ли кто-то вспомнит про жестокость. Она зажимает тело и дух, толкает носом в землю. Там, где поселилась жестокость, уже не будет места для любви, а следовательно, и для искусства. Если любви нет, а есть только насилие, наверное, тоже что-нибудь получится. Но что это будет?
2. Я уверена, что использование личного травматического опыта как материала для творчества не должно становиться самоцелью. Выплеск личной боли в пространство искусства, где существуешь не только ты один, может травмировать другого человека. «Зло порождает зло», — говорит Печорин у Михаила Юрьевича Лермонтова в «Герое нашего времени». Проработка и рефлексия травмы могут стать поводом твоего творчества, но не должны становиться движущей силой того, что ты создаешь. Поэтому, испытывая боль собственную, я стараюсь заниматься ее преодолением и поиском выхода из этого состояния. Думаю, в этом и заключается одна из задач художника — прорываться через личные травмы и исследовать фундаментальные условия их возникновения. Проработкой личного травматического опыта правильнее всего заниматься со специалистом.
3. Искусство однозначно способно помочь человеку справляться с переживаниями реальности. Но при условии, что человек по-настоящему желает и, что немаловажно, готов преодолеть эту травму и двигаться дальше. А это настоящая работа! В этом вопросе жажда исцеления человека, воспринимающего искусство, играет такую же большую роль, как и жажда способствовать исцелению у человека, создающего искусство.
ПЕТР НЕЗЛУЧЕНКО, АКТЕР И РЕЖИССЕР

1. Я уверен, что возможна жестокость как художественный прием. Этому есть множество примеров. Но у меня есть ответный вопрос: а что не может быть использовано как художественный прием? Разве есть какие-то ограничения в этом? Кроме цензуры, конечно. Тут не может быть ответа «нет» в любом случае. Но в наших реалиях возможно все.
2. Да, конечно, использую. Это происходит как-то само собой. Это неизбежно. Проработка это или рефлексия, зависит от свежести раны. Если на примере, то «Трагедия короля Ричарда Третьего» — это проработка, потому что рана очень свежая, а «Старик и море» — это рефлексия по конкретной травме прошлого.
3. Я затрудняюсь ответить точно. Я уверен, что способно как минимум запустить этот механизм. Есть примеры, когда после спектакля мне говорят о его влиянии. Один мужчина лет сорока после «Ловушки для птиц» по Стешику позвонил мне и целый час рассказывал про то, как эта постановка изменила его жизнь, как он поменял свои позиции, как он был на грани чуть ли не самоубийства, а после спектакля нашел второе дыхание. Это как-то его перезагрузило. На тот момент он был уверен, что это его спасло.
ДМИТРИЙ ЕГОРОВ, РЕЖИССЕР

1. Да, возможна.
2. Я никогда не делил жизненный опыт на травматический или нетравматический. Слишком многое из того, что происходит за жизнь, нас травмирует.
И травматический опыт — это всего лишь часть происходящего. Часть того жизненного опыта, которым мы делимся друг с другом на репетиции с актерами, разбирая тот или иной материал. В общем, отдельной специальной полки «травматический опыт» у меня нет.
3. Искусство воздействует, безусловно. Но такого, чтобы искусство лечило травмы, — нет. Искусство, которое утешает, — да. Искусство, которое отвлекает, — да. Искусство, которое занимает, — да. Но искусство, которое избавляет от травмы… да нет, не сталкивался я с таким. Травмировать оно способно, меня хорошее, сильное искусство зачастую травмирует, но я в этом ничего плохого не вижу.
Мне вообще кажется, что для того, чтобы искусство каким-то образом избавило человека от травмы, он должен сам в этом участвовать. Он, наверное, не может, просто сидя в зале или слушая музыку в наушниках, избавиться от травмы. Например, я был свидетелем ситуации, когда актриса, оказавшись в обстоятельствах материала, сходных с обстоятельствами ее жизни, начала очень сильно нервничать. Было видно, что эти обстоятельства воздействуют на эту травму. И как я был рад, когда после премьеры она мне написала: знаешь, меня отпустило. После того как она физически прошла через этот опыт сама, попав в сходную ситуацию и пережив его повторно.
Я в подростковом возрасте работал инструктором в программе социальной адаптации для трудных подростков (инструкторами там были тоже подростки, потому что ребенок часто не доверяет взрослым, подросткам доверяет больше — они одной крови, из одного мира). И когда человек, вновь попадая в сходную травматическую ситуацию, выходил из нее победителем — да, это помогало. Но это к психологии относится, искусство тут ни при чем. Людям, которые сами в этом участвовали, помогало. Но если бы они сидели и смотрели за схожей ситуацией, не оказавшись в ней… не знаю. Сомневаюсь, что это имело бы терапевтическое воздействие. Хотя вот была целая программа «Театры России — детям Беслана», там привозили спектакли и показывали детям — бывшим заложникам, но об этом надо с теми, кто это делал, говорить.
БОРИС ПАВЛОВИЧ, РЕЖИССЕР

1. Мне кажется, здесь самое главное — разбор понятий. Жестокость по отношению к персонажу, аналитическая безжалостность — это что-то одного порядка; жестокость психологическая, когда существуют абьюзивные отношения во время репетиции, буквальная жестокость — другое; манипулятивные и агрессивные воздействия на зрителя — это третья тема.
В категории этики отношений мы еще можем установить какие-то правила и границы — что касается отношений в рабочем коллективе.
Когда же мы переходим в зрительный зал, у меня, скажем так, по-другому расставлены красные флажки. Для меня вопрос агрессивного манипулирования, желания художника внедрить что-то в голову зрителя является чем-то враждебным. Я не знаю, можно ли это назвать жестокостью, поскольку это может быть трансляцией вполне гуманистических ценностей. Можно уважительно и бережно говорить о жестоких вещах — будет ли этот спектакль жестоким? Жестокость — это жестокие вещи, о которых мы говорим, или жестокие приемы, которыми мы пользуемся? Об этом писал как раз Антонен Арто, требуя выводить зрителя из ситуации комфорта и удобного восприятия.
Если взять последние мои спектакли — «Конец света, моя любовь» и «Риф», — там достаточно много таких контрастных и жестких для восприятия художественных приемов. Например, многие зрители жалуются на агрессивную звуковую подачу в «Рифе». Там вся музыка построена исключительно на ударных инструментах, используется очень мощное звукоусиление — уровень громкости как на рок-концерте, что нетипично для драматического театра. И это можно назвать агрессией и жестокостью по отношению к зрительскому восприятию.
Мне сложно сказать, жесток ли я по отношению к зрителю. Мне кажется, я стараюсь быть диалогичным и таким образом нахожусь не в плоскости Арто, который вступал больше в аффективные отношения, апеллирующие, скорее, к архетипам. Я, наверное, всегда стараюсь оставаться в ситуации диалога, доверительного обсуждения тем, даже тем эмоциональных и дискомфортных.
Скажу так — я такой категорией, как жестокость, прямо не пользуюсь. Мне понятнее слово агрессия, например, как активное вторжение в личные границы. Да, этим я пользуюсь. Театр — это ситуация, где происходит игра и существуют подвижные отношения между залом и артистами. В этом плане возникают агрессивные отношения.
Для меня несдвигаемой границей являются принципы гуманизма. Для меня театр — последний оплот территории, где люди друг друга уважают и ценят мнение друг друга. И, конечно, эту дискуссию и разговор хочется вывести из постоянного взаимного одобрения — это не есть позиция уважения и равенства, поскольку поддакивание друг другу само по себе кажется неуважительным. Поэтому выход на дискомфортные темы для меня обязательная часть искусства.
2. Конечно, есть желание травматический опыт проработать и осмыслить. Одно дело — когда темы возникают на сцене. Другое — когда ты свои травмы невольно вымещаешь на артистах. Иногда ловлю себя на том, что включаю удобные механизмы эмоционального доминирования, давления. В этот момент важно успеть объявить перерыв, распустить всех пить чай, а самому задуматься о том, что сейчас у меня в голове. Для меня мой личный опыт — ловить себя на агрессивных импульсах и делать так, чтобы эта цепочка оборвалась.
Насчет итогового результата мне самому изнутри сказать невозможно, потому что все, что мы делаем, — отражение нас. Нельзя сделать что-то стоящее, не став частью этого произведения. А насколько это травма или что-то еще — тут как раз надо, чтобы кто-то со стороны — театральный критик или просто чуткий зритель — это увидел и сказал.
Но мне кажется, что такое, безусловно, происходит. Сознательно или бессознательно.
3. Я уверен, что искусство совершенно точно обладает терапевтическим действием для тех, кто его создает. Именно поэтому я всячески стимулирую всех делать искусство. Большой план моей работы состоит в том, что я вовлекаю в создание театра людей, которые никогда этим не занимались, я всегда был адептом непрофессионального театра, помимо профессионального, потому что, мне кажется, если ты хочешь что-то понять или в чем-то разобраться, тебе нужно самому сделать об этом какое-то художественное произведение.
Зрительский опыт — это опыт некоего прецедента: я увидел, что что-то возможно. Вряд ли кто-то стал писать музыку, снимать кино или делать театр, не будучи когда-то обожженным какой-то музыкой, каким-то фильмом, каким-то спектаклем. И в этом смысле зрительский опыт важен как опыт инициационный.
Но, для того чтобы прошла по-настоящему целостная работа, надо самому занять активную творческую позицию. В этом смысле мне близки мысли Йозефа Бойса про то, что каждый должен быть художником, или Евреинова с его «Театром для самого себя».
Мне кажется, это очень важная цепочка: получая зрительские впечатления, мы получаем определенный вызов и дальше отвечаем на него. Не обязательно на вызов в театре отвечать театром — я могу ответить на это и, например, волонтерской деятельностью в повседневности.
Но, в любом случае, я не думаю, что работа над собой возможна в кресле зрительного зала. В зрительном зале можно получить вопрос. И, мне кажется, без этого вопроса от другого художника тебе иногда сложно свой собственный вопрос сформулировать. Для меня это такая вязь культуры: мы получаем импульс от тех, кто делал что-то до нас, дальше что-то делаем сами, а это становится импульсом для следующих людей. Поэтому каждый человек должен быть и зрителем, и художником в широком смысле слова — человеком, преображающим действительность вокруг себя.
МИХАИЛ БЫЧКОВ, РЕЖИССЕР

1. Честно говоря, нет, я такой все-таки мягкотелый бесхребетник… не могу, мне это не близко: ни про унижение актеров, ни про насилие над зрителем. На мой взгляд, самовыражаться, достигать таким образом своих целей нельзя. Ведь то, что мы делаем в нашем творчестве (я уж не скажу на сцене, потому что это может быть под сценой, где-то там на пустыре, где угодно), мы это делаем для того, чтобы что-то случилось с человеком, который к нам пришел. Он не должен написать в штаны от страха или прийти весь облитый пожарной пеной нашего радостного фонтана. Нет, с ним должно случиться что-то другое, что-то внутри. Он должен что-то пережить, какой-то опыт, что-то почувствовать, но это не должно быть на уровне первой сигнальной системы. К сожалению, я пару раз (ну не пару раз — больше) сталкивался с таким. Например, режиссер включает музыку на запредельном уровне и на протяжении пятнадцати минут заставляет зрителей слушать какое-то психотехно, которое просто невыносимо, а артистов заставляет танцевать под это дело. Цель всего этого неизвестна. По-моему, это чистой воды физиологический эксперимент над зрителем. На мой взгляд, это не художественно (я продолжаю такими дурацкими терминами мыслить и жить).
2. Да, использую, но это не является для меня проработкой травмы — только рефлексией. Рефлексия — это отражение, а проработка — это когда нужно разъять на части, переложить в другом порядке, чтобы оно перестало быть колючим и тебя ранить. Я в принципе не очень сведущ в терминологии такого толка, не очень верю, что можно прорабатывать травму. Из чего художник делает свое творчество? Из своей боли, из своих слез, из своих переживаний, из своих мечт, из своих темных вещей, которым он не дает реализоваться, но опосредованно и не зеркально напитать ими свое творчество у него получается. Если очень внимательно смотреть, когда, какой и о чем спектакль я делал, сопоставить с какими-то моими вещами (когда я разводился, когда я влюблялся, когда я женился, когда меня бросали, когда меня лишали театра и так далее) — всему этому можно найти отражение в моих спектаклях. Я абсолютный интуитивист и рефлексик.
3. Не всякого, но чувствительного человека — да. Для такого человека искусство способно зажечь веру, которая вдруг этой травмой была убита или погашена. Это не закон, это не правило, это не гарантированный механизм, но это может случиться. Ты можешь услышать в музыке, найти в книге то, что тебя поддержит, отпустит, заставит чуть по-другому на это взглянуть. Чтобы вместо того, что кажется очень важным, жутким, страшным, непреодолимым, ты вдруг увидел новую цель, новый свет в окошке.







Комментарии (0)