БЕСЕДУ С ДМИТРИЕМ КРЫМОВЫМ ВЕДЕТ МАРИНА ДМИТРЕВСКАЯ
Марина Дмитревская Дима, молодежная редакция задает театральным людям вопросы. Возможна ли жестокость как художественный прием? Используете ли вы личный травматический опыт как материал для своего творчества? Это для вас проработка травмы или рефлексия? Способно ли искусство избавить человека от травмы? Вот круг тем…
Дмитрий Крымов Хорошие вопросы… Особенно когда их задает молодежная редакция. Но я бы не отвечал на них по очередности, а просто порассуждал на эту тему… можно?
Что такое искусство и для чего оно нужно? — подумал бы я. В каком-то смысле — это лекарство от боли, от жизни, которая доставляет боль. Травма — это и есть жизнь. Все искусство (по крайней мере то, которое мне интересно) — это преодоление травмы. Художник, даже если с ним не происходит ничего катастрофического, травматического, трагического, все равно выискивает в жизни то, что его травмирует, и пытается наложить на это какой-то анестезирующий пластырь. Искусство — это пластырь с анестезией.
Я сейчас читаю рассказы Чехова. Надо сказать, что многие я не читал. А их огромное количество. Очень много смешных. Но так драматически, катастрофически, бесперспективно видеть жизнь, как он, так видеть свою страну, народ, который ее населяет, их уровень бедности, уровень их желаний — это, думаю, травма. Ведь Чехов сам оттуда и знает, что все так. И он еще и врач и все случаи знает из собственного опыта, опыта друзей, он этим окружен, и то, как он это описывает — страну, ее людей, — меня, собственно, и беспокоит. Особенно последнее время. Но у него такой взгляд на это — с юмором… Есть рассказ, где какой-то мастеровой везет больную жену к врачу и по дороге понимает, что она умерла и стук, который он слышит, это ее голова стучит сзади о телегу. И он боится повернуться, и все время разговаривает — то с ней, то с врачом, то с лошадью, а потом он замерзает и засыпает, а очнувшись у врача, говорит: «Надо же похоронить…» А врач отвечает: так ты допрыгался, у тебя уже нет ни рук, ни ног, ты их отморозил, но ты ж прожил шесть десятков лет — и хватит, чего ты тут расстраиваешься… И заканчивается все смешной, именно смешной, но трагично-смешной фразой: «И слесарю капут». Смешно это? Ужасно смешно, потому что он нелепый чаплиновский персонаж, смешной дурак, всю жизнь был пьяный, помнит свадьбу, а чем она кончилась — не вспомнить, и что делал сорок лет — не помнит, и все это безумно смешно… Ну, бил ее, но не со зла, и сейчас он начинает перед ней извиняться, и все это так убого и так страшно — просто жуть. Некоторые рассказы откладываешь, думаешь: ну, кошмар, надо это пережить, и только потом можно дальше читать. Почему это помогает? Потому что на эту рану, которая у меня болит и вообще во многих людях болит, Чехов накладывает пластырь. С анестезией юмора и понимания. И помогает перескочить через травму. Перейти через нее по шаткому, но мостику. Его рассказы — для тех людей, у которых болит состояние народа и страны. Он ведь никогда не пишет о том, что хорошо, у него и в пьесах никакая любовь не получается, а то, что получается, — ему не интересно, впрочем, как и Шекспиру. Травма это для него? Огромная травма! Есть свидетельства, как он после Ходынки поехал туда, смотрел на трупы, а потом неделю ни с кем не разговаривал. И это Чехов, который все время шутил. Но в своих рассказах он превращает это в нелепо-смешной взгляд. Лечит он этим? Лечит. Это способ борьбы с травмой. Вот сестры не поехали (как и мы все) туда, куда хотели, — в Париж ли, в Москву ли. Я, например, никуда не хотел ехать, хотел просто остаться в Москве. Не получилось. Поэтому я из семьи Прозоровых. Как бороться с этим? Чехов помогает мне своей пьесой и тем, что он был.
У него в жизни, надо сказать, кроме ранней и смертельной болезни, никаких особенных драм не было, это почти уникальный случай в русской литературе. Он и на Сахалин-то, по-моему, поэтому и поехал… Высокий художник сам ищет себе травмы.
Дмитревская А Дуня Эфрос? Несостоявшаяся женитьба, еврейский вопрос, из которого потом родилась Сарра в «Иванове»?
Дмитрий Крымов Так таких травм полно у всех… Его травма от русского народа не идет в сравнение с Дуней Эфрос. Потому что воздухом этого народа, его лаптями, он дышит много раз в день: вдох-выдох, вдох-выдох. И в зеркало человек смотрится каждый день. Я перечитал «Даму с собачкой». Там нет ничего смешного. И вообще как-то ничего почти не происходит. Но почему-то вдруг человек, который смотрит на себя в зеркало и видит, как поседел в сорок с чем-то лет, — понимает, что жизнь проходит и этот глупейший курортный роман, которых у него было много, почему-то перерос в любовь. И это так печально! Помогает ли мне этот взгляд? Очень. Эта анестезия, которую Чехов положил своей личностью на все эти проблемы, действует на протяжении многих лет.
Что я хочу сказать? Не надо ждать травм, во-первых, русская власть всегда заботилась о художниках — чтобы они особенно не искали. Прямо от Пушкина и начала заботиться, ставила барьеры. А он через все эти барьеры прыгал.
Да, он и сам искал и нарывался, из ничего делал прыжок. И у Толстого в «Севастопольских рассказах» — прыжок через травму. И в «Войне и мире», и в «Анне Карениной». А в «Севастопольских» травмой дышит просто каждая страница, но он нашел способ перескочить, потому что искусство — перескакивание через травму.
Собственно, великий писатель, или очень большой, или просто крупный, виден именно в прыжке через травму. Которая случилась с ним в жизни или которую он нашел сам. А особенно не надо и искать, жизнь этим полна. Ромео и Джульетта — чего они там искали? Ничего они не искали, и Шекспир не искал, он быстро пьесы писал для театра. Но его чувствилище было настолько расположено к восприятию мира как травмы, что почему-то они там на каждом шагу. Даже если вглядеться в Мальволио, такого смешного персонажа одной из его комедий, — как же его жалко, он уже не в том возрасте, чтоб над ним смеяться…
Если художник не занят травмами своими и чужими (а чужие для него свои, коль уж он их видит) — он не винодел, он делает такую легкую шипучку — просекко. Не хочу никого обидеть, но просекко — это баловство перед едой, гламур, журнальный блеск. Даже не шампанское. Шампанское — это огромная культура, как и вино…
Использую ли я опыт травм? Конечно. Я и картины писать начал (и занимался этим больше десяти лет) поэтому. Помню, когда умер папа, я задрал на кладбище голову, открыл рот и просто стоял так. Как будто кричал, но без звука. И долго потом чувствовал себя человеком, который задрал голову и кричит. Использую ли я опыт травм?.. А чем еще заниматься? Это все равно что спросить: вы пишете красками?
Художник — это человек с такой душой, которую травмирует все. К сожалению, только это материал для искусства. Глупые люди говорят: чем больше переживаний, войн, гонений — тем для художника лучше. Ерунда собачья. Он сам найдет себе переживание. Достаточно ему в зеркало посмотреть и понять, что он стареет. Посильнее «Фауста» Гете переживание… Может, молодежная редакция еще этого не знает, но это — одно из сильнейших переживаний вообще. И кругом — как грибы, рассыпаны травмы.
Тот, кто занимается этим — перепрыгиванием через найденное препятствие, через травму, — может и пошутить. Как Мольер. Но этот человек написал «Дон Жуана» и «Тартюфа», и он имеет право просто пошутить в комедиях. Иначе не выдержишь, если будешь только решать проблемы с полновластностью религии или полновластностью циничной аристократии. Не будешь шутить — погибнешь.
Истинный смех приобретает цену только на кладбище: тот, кто пошутил на кладбище, — может пошутить и вне кладбища, рядом с чем-то очень серьезным и драматичным…
Дмитревская Помните, Дима, у Володина в «Старшей сестре» — легенда о Тамерлане? Рассказывает несчастная жена Кирилла: «Тамерлан осадил один город, послал туда гонца, потребовал мешок золота. Дали. Еще раз послал гонца. Тот возвращается ни с чем: „Жители плачут, говорят — больше ничего нет“. — „Ну, если плачут, значит, еще есть“. И правда, собрали еще мешок. Тогда Тамерлан спрашивает: „Как там настроение?“ Гонец говорит: „Смеются, песни поют“. — „Ну, раз смеются, значит, действительно ничего не осталось“».Дмитрий Крымов Смех — способ выжить в экстремальных ситуациях, во всех других случаях — это просекко. В таком смехе нет ничего плохого, как и в просекко. Но серьезный смех, комедия, маску которой вешают на гвоздик рядом с трагедией, — способ выжить в совершенно нечеловеческих условиях, когда всем руководит рок или боги. Человек смешон в этой борьбе, и смех — просто способ не свихнуться раньше времени. Кажется, это написано у Аристотеля. Это хороший способ перескакивания через травму.
По-моему, я ответил на первый, на второй и даже на четвертый вопрос.
Дмитревская Процесс переживания театром социальных травм, который долго казался необходимым и важным, оказывается, тоже не работает. Вот польский театр долгие годы жил темой вины поляков за уничтожение евреев. Польский театровед и критик Гжегож Низёлек в книге «Польский театр Холокоста» исследует это, начиная от «Акрополя» Гротовского и «Мертвого класса» Кантора вплоть до «(А)полонии» Варликовского и пьесы «Наш класс» Тадеуша Слободзянека. Казалось бы, травма была проработана искусством — и что? Несколько лет назад тема была закрыта буквально каким-то государственным законом, и снова уже нет вины поляков за уничтожение соседей («Соседи» — называлась книга Яна Томаша Гросса, вышедшая в 2000-м). Это все делали только немцы. Или вот случай с Рутой Ванагайте, написавшей книгу «Свои». Она, затравленная, была вынуждена уехать из Литвы, не желающей вспоминать, как евреи заживо горели в сараях, подожженных односельчанами (дед Руты, как выяснилось, сам не сжигал, но списки жертв составлял, а до этого считался борцом с Советами…). Люди не хотят быть детьми тяжелого прошлого и потому выдумывают мифологию. Стало казаться, что проработка травм искусством бесполезна…
Дмитрий Крымов Понимаете, когда художник ищет травмы или вынужденно переживает их, он не думает о народе, он общается с Богом и со своей совестью. А что люди хотят спокойно жить (и этих людей большинство) — это их проблемы, это не относится к той теме, о которой мы разговариваем. Мы разговариваем про художника. А это в чем-то несчастные, обреченные люди. Потому что видишь проблему — и надо через нее перескочить. Как Чехов. Есть же у него потрясающий рассказ «Враги». Как у доктора только что умер сын шести лет — и к нему приходит человек и просит поехать к больной жене. И доктор сначала ничего не понимает, а потом едет. Вот это и есть художник.
Дмитревская Сейчас ведь очень много психологов, к которым ходит каждый, кому не лень. Они объясняют всем одно и то же: все у тебя из детства, ты не виноват, раз однажды мама опоздала забрать тебя из детского сада. Это перекладывание вины на родителей, окружение и судьбу. Мама не дала в пять лет конфету — и это причина твоего сегодняшнего нежелания, как вы говорите, перескочить через что-то, сделать усилие. Очень часто я говорила своим студентам, не сделавшим работу, что признаю только тот кризис, который рождает текст: найди предмет и переработай свою драму в связи с ним.
Дмитрий Крымов Да, иначе ты слабак.
Дмитревская Знаю, что именно в самые отчаянные моменты и, казалось, только из чувства ответственности перед изданием я писала тексты, за которые мне теперь как минимум не стыдно. Потому что в них запакована какая-то беда. Писала пьяная, с лекарствами, а прочитаешь через пару десятилетий — так они лучшие.
Дмитрий Крымов Потому что это лекарство не только для тебя, но и для тех, кто читает. Или смотрит. Ты же публично борешься с болью, перескакиваешь на людях, так сказать, через препятствие… Это надо прекрасно понимать. Тогда ты врач. Даже если Освенцим, даже если то, что сейчас происходит в мире, в разных его концах. Ты должен это делать. Как-то. Иначе травмы будут без анестезии.
Тяжелого искусства не бывает. Бывает тяжелая реальность. А искусство — это преломление реальности через некую призму, и в этом все дело. Если это искусство — оно заведомо не тяжелое, то есть не такое тяжелое, как реальность, это отражение, преломление, и через это преломление оно может поднять бетонную плиту. Один из параметров искусства — красота и гармония (или антикрасота, антигармония. Но антигармония может существовать ведь только тогда, когда рядом есть сама гармония, правда?). В общем, если это все верно дозировано — это всегда должно возвышать. По крайней мере, я сторонник такого взгляда. Оно всегда должно возвышать. Ведь после моцартовского «Реквиема» ты не вскакиваешь и не кричишь «Браааво!» Но тебе становится хорошо и так анестезийно… Ты оборачиваешься внутрь себя.
Дмитревская Я думаю, что самая большая травма, которую переживают люди вокруг меня, — это травмированность страхом. Недавно в Музее Ахматовой я спросила сотрудников: скажите только одно — как они выдержали с 1917 по 1956-й? Вот просто как — по здоровью, психически?
Дмитрий Крымов Я не знаю, что они вам сказали, но в том, что вы говорите, уже есть ответ: они выдержали. Если вы приходите в врачу, а он говорит: у меня только что был человек, у него то же самое. И вам уже будет легче. Потому что вы не один. Ахматова выдержала. Не обязательно выдерживать так. Но можно. Хотя очень трудно.
Дмитревская Мне так и сказали: просто — выдержали.
Дмитрий Крымов Я думаю, что Ахматовой помогло ее прошлое. Хорошее прошлое помогает. У вас было счастливое детство. И у меня было счастливое детство. Это помогает. Вы знаете, моя мама когда-то спросила Марию Осиповну Кнебель: «Вот вам столько лет, а вы бегаете-прыгаете за каждым студентом, взлетаете на сцену…» И та ответила: «Наташенька, у меня было счастливое детство».
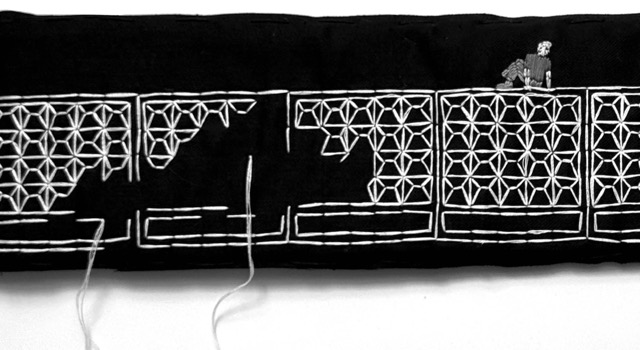
Марина, мы сейчас о художнике. На него возложена миссия. Вдыхать углекислый газ и выдыхать кислород. Даже вдыхая углекислый газ Освенцима. Что делать? Если у тебя не хватит легких — ты задохнешься. Но ты все равно будешь это делать. Потому что ты художник, это, собственно, твоя функция, и больше функций у тебя нет. Если ты мастер просекко и развлекаешь людей — ты не художник, ты как-то по-другому называешься и к тебе другие вопросы, о которых мне не очень хотелось бы разговаривать, тем более сейчас. Знаете, у одной моей студентки была тема «Толстой» и одна из ее ассоциаций — «человек, который не дотянулся до Бога». Но хотел! Вот человек себе травму нашел: не дано человеку туда дотянуться. А он хотел дотянуться. А человеку не дано. Но он хотел — он и велик.
Дмитревская Ну, в стремлении дотянуться до Бога есть несомненная гордыня…
Дмитрий Крымов Где граница между гордыней и гордостью, амбициозностью и величием задач, самомнением, самолюбием и прочими вещами, одни из которых хорошие, а другие считаются так себе? Грань очень деликатная и тонкая. Как хорошее может перейти в плохое — понятно. А как великое может быть без части того, что считается плохим? Тут сложнее.
Дмитревская Я пыталась ответить себе на этот вопрос. Гениальность — да, невозможна без знания краев, верха и низа, темноты и света. Но если не брать гениальных людей, из психиатрии известно, что неврозы возникают из несоответствия притязаний и возможностей. Выступающий в среднем весе пытается поднять штангу тяжеловеса — и это плохо кончается, он надрывается и заболевает неврозом. Соразмерность того, что ты из себя представляешь, и того, что делаешь, для меня всегда была очень важна. Иначе — психическая травма.
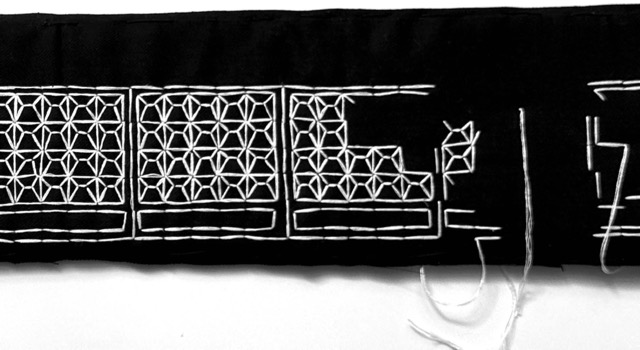
Дмитрий Крымов А если взять нашего Пушкина, которого тут в Европе воспринимают как принадлежность имперского сапога (мне никогда в голову не приходило, что я могу быть защитником Пушкина, но так происходит, и он остается моим любимым). Как он говорил о народе? «К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь». Хочется сказать: какой ты гордец! Какое право ты имеешь! Но он сказал это, когда не был «нашим всем». Да просто хам! Мальчишка! Ему крепостные сливки сбивают, а он так! Где разница между взглядом птицы и гордыней? Но птица летает, она уже оттуда видит все. Гордая она или нет, молодая или старая, но она уже видит, потому что летает. Вот Пушкин взлетел и увидел! Как у Леонардо была способность: он просто гулял по какому-то берегу, потом приходил и чертил его карту, как будто видел его сверху. У него была способность птичьего взгляда. Или возможность делегировать свои глаза птице, а потом она их тебе отдаст, когда прилетит обратно. И ты приходишь домой и рисуешь. Вот и Пушкин взлетел и сказал про ярмо и бич. Ах, мальчишка, сукин сын, уже за одно это его нужно было сослать в Сибирь! Запретить Пушкина! Запретили же сейчас «Чиполлино», потому что главный герой выступал против власти. Вот тебе и травма. Сидит ребенок, читает книжку, приходит под видом доброй феи Баба-яга и выдирает у него из рук книжку. Что чувствует мама? А папа? Оскорбление. Оскорбление — это травма. Твоего ребенка оскорбили — значит, оскорбили тебя. И чего эти травмы искать? Все они тут… Верьте мне. Я говорю это все не потому, что амбициозен и хочу пристроиться к Моцарту или Пушкину, но мне без них не жизнь. Просто — не жизнь. Без их помощи одиночество меня просто задавит, а они перепрыгивали через свои «Реквиемы», «Три сестры», через свой возраст…
Июль 2024 г.









Комментарии (0)