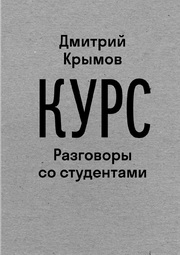
Крымов Д. Курс: Разговоры со студентами.
М.: Новое литературное обозрение, 2023.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. В пандемийный год, который сейчас выжившим видится едва ли не благодатным временем, Крымов, как и все мы, занимался со своим курсом в зуме. Занятия эти тогда записывались вполне утилитарно — для отсутствующих, но позже видео расшифровала Елена Дмитриевна Вознесенская, бабушка одного из действующих лиц книги, с благодарностью названная Крымовым в предисловии «самоотверженной». Километры видео превратились в компактную книжку.
Крафтовая бумажная обложка с простыми черными буквами «Курс. Разговоры со студентами». Под ней взволнованное предисловие Марии Трегубовой, выпускницы самого первого крымовского набора. Дальше традиционное «От автора» с забавно извиняющейся интонацией и благодарностью ГИТИСу за двадцать лет работы. Потом сорок разновеликих глав и главок с именами студентов, фамилиями классиков вперемежку с «Руганью», «Игрой» и «Конфликтом», а то и просто датами в названиях. Заканчивается нумерация страниц на 247-й с крошечным «Обрывком какой-то лекции». А дальше идут двадцать рисунков — лекционных почеркушек, где Катя, Маруся, Петя, Мартын, Варя, Мика, Ляля, Нина, Аня, Валя и Арина во время занятий в ч/б графике изобразили Крымова в мониторе и без, самих себя, почему-то пару собак и материализовавшийся ужас, возникший полустертым призраком мунковского «Крика». А на самой-самой последней странице целиком уместилось написанное Варей прямо из их учебной студии на Поварской письмо Крымову в Грузию, в нем постепенно исчезали заглавные буквы и в смятенную воронку закручивались темы, мечты, восторги, страхи и боль, насквозь пропитавшие те самые сорок глав на тех самых первых двухстах сорока семи пересчитанных страницах. Так самоиграющая композиция превратила книгу в отдельный крымовский бумажный спектакль.
У приходящейся Дмитрию Крымову по гитисовско-преподавательскому родству бабкой Марии Осиповны Кнебель (сначала она учила на практике Эфроса системе Станиславского, потом Крымову в теории системе Михаила Чехова, следом за ней они оба выпускали свои режиссерские и театроведческие курсы, а дальше уже и Крымов — собственные сценографические) есть книга «Поэзия педагогики». Разумеется, она совсем другая. Но вот ее название отлично вписалось бы в подзаголовок крымовского «Курса».
Там и правда в закрепленных буквами монологах Крымова обнаруживается одновременно зыбкий и ясный лиризм, отлично знакомый всем по его театральным работам. Там есть разборы отдельных стихотворений, а погружаясь вслед за мастером в блистательный анализ четырех строф «Импрессионизма» Мандельштама, начинаешь физически задыхаться от восторга в густом дурмане сирени и невольно отмахиваться от такого же одуревшего в лиловой ее тени шмеля.
Там много разговоров о поэзии, когда из одной главы в другую перебираются — и кажется, что как-то даже сами с готовностью спешат к Крымову навстречу, — Пушкин, Мандельштам, Бродский, Хармс, Блок, Цветаева, Ахматова, Лермонтов и снова Пушкин с Цветаевой, самые для Крымова важные персонажи в этом впечатляющем ряду. Тут же, отталкиваясь от робких еще попыток своих студентов вообразить картины миров Льва Толстого, Тургенева, Гоголя, Платонова, Булгакова, Дюма, Афанасьева с его сказками, Чехова и огорченно обруганной мастером Астрид Линдгрен с ее Карлсоном, Крымов помогает каждому отыскивать свой собственный ключ к этим мирам, и ключ этот снова — не что иное, как вольная поэтическая фантазия.
Из занятия в занятие, словно по системе Михаила Чехова, Крымов как бы из ниоткуда выманивает образы великих сюда, поближе к студентам, чтобы те могли разглядеть их облик в подробностях, и с восхитительной фамильярностью обдирает облепившие их уродливые временные и хрестоматийные наросты. Вот, например, бороду «чуть-чуть не дотянувшего до бога», по словам Вали, Толстого Крымов описывает как пук купленной на строительном рынке пакли и велит понюхать ее, сродниться с ней, почувствовать этот небожественный, неприятный «запах великого человека». Или вот Гоголя он называет маленьким гномом, пиявкой, присосавшейся к Пушкину, но фантастическим человеком, создавшим совсем не пушкинскую грандиозную русскую прозу. «Они вообще, знаете, все эти писатели крупные — они не обидчивые, — скажет Крымов. — Они позволяют с собой дружить, играть, изменятьпод себя».
В сущности, именно поэзия, как выяснилось, и стала главным преподавательским инструментарием Крымова. Все литературные экскурсы в этой книге преследуют четкую учебную цель: одиннадцать студентов-сценографов выбрали себе по одному писателю или поэту, чтобы создать живое театральное пространство собственной игры с классиком. А крупных классиков, по мнению Крымова, кроме этих одиннадцати еще не больше пятидесяти, и каждый из них есть особая художественная система, в которой причудливо переплелось своеобразие личности творца с его творениями. Сначала нужно постичь, разгадать эту систему, как-то подступиться к ней. И Крымов придумал для своих учеников специальное подступательное задание.
Он попросил студентов на куске бумаги — ни в коем случае не на белом аккуратном листе А4, а лучше всего на обрывке обоев с неровным краем — записать много-много всяких ассоциаций, чтобы нащупать очертания пульсирующего художественного мира своего героя. Вот он объясняет Варе: «И пиши не тривиальные вещи, не школьное сочинение про Гоголя, а выискивай какие-то интересные формулировки, которые потом подскажут тебе твою близость к нему, которые позволят тебе на этом базировать твое пространство, твой сценарий, твою игру».
Потом велел из этого длинного перечня выбрать примерно три метафорические ассоциации, главные, такие, чтобы они оказались способными к разворачиванию из метафоры, названной им «молекулой образа» (ужасно смешно при этом Крымов пересказал запомнившийся ему рассказ незапомнившегося человека о том, что метафора по-гречески это перевоз, и явно показал, как греки ловят такси на улицах с криком — «метафорА!»))), в уже самый настоящий сложный и нелинейный художественный образ. Вот эти плюс-минус три выбранных образа-ассоциации должны раскрутиться и сложиться уже в новую, насквозь театральную сущность, динамичную, создающую, как говорит Крымов, турбулентность, движение воздуха. Так через «доставание ИХ из себя» и рождается замысел. Крымов называет это «поисками рифмы в жизни», утверждает, что «художник должен научиться искать рифмы», иначе «жизнь расползется, превратится в хлам», потому что рифмы эти «скрепляют жизнь, не дают ей развалиться…»
Крымовские образы, рассыпанные по страницам его второй книги, при всей их способности к трансформации и веселому кувырканию в продуваемом фантазийными ветрами пространстве, весьма материальны. Они закреплены, как толстовская борода, в определенной фактуре, они имеют цвет, запах, тяжесть, масштаб. Они рождаются и разворачиваются в определенных ракурсах и жанровых сломах. Один из самых трагических и прекрасных фрагментов книги — это рассказ Крымова про его идею фильма по тургеневским «Запискам охотника», когда весь этот веселый охотничий переполох с людьми, собаками, чаем и выпивкой видится глазами принесенной из леса в дом вниз головой недобитой прекрасной птицы, в меркнущем сознании наблюдающей этот чуждый мир и собственное умирание, отражающееся в начищенном самоварном боку.
Крымов в предисловии пишет, что «никакой стройной системы тут нет», а есть «некоторые мысли и свобода», обретенная им тяжко. А между тем на страницах «Курса» в диалогах со студентами, то и дело перерастающих в крымовские монологи, он с предельной открытостью демонстрирует свой «способ придумывания — рассуждать», потому что «истина появится при рассуждении», и очень хочет, чтобы «они восприняли эту технологию». Так, опираясь на «системное мышление», придумывается замысел и запускается в «системную работу». Он учит ребят на классиках, которые сами по себе есть «целостные системы». Но тут же предупреждает их: «Я вам скажу больше. Если вы будете делать в театре какого-нибудь придурка, который не целостная система, а таких очень много, вы должны сами себя ощущать как целостную систему. И накладывать свою систему на эту нецелостную систему. <…> Необходимость иметь целостную систему в себе самом важнее, чем то, что вы видите».
И способ формирования себя как целостной системы Крымов предложил своим студентам в самой первой главе книги с названием из даты — «1 сентября». Там семь пунктов. Уродуя прекрасный текст, законспектирую его кратко. Первое. «Понять себя, найти себя и не стесняться этого, найти в себе боль и научиться работать с ней». Второе. «Возвести умение пользоваться этим в профессию. Сочетать холодность хирурга с бешенством поэта». Третье. «…Умение видеть смыслы за всеми предметами и явлениями и нуждаться в этом. <…> Цель — понять мир вокруг себя, понять, что тебе подходит, а что нет. То есть понять себя в сочетании с этим миром». Четвертое. «Читать хорошие книги, смотреть хорошие спектакли и фильмы, анализировать их. <…> Остальное не читать и не смотреть». Пятое. «Изучив и сделав первое задание, сделав его один, два, три, четыре, пять раз и перейдя ко второму, помнить, что во втором есть первое, а в третьем — первое и второе. <…> Только тогда занятия будут полезны и опыт будет накапливаться, превращаясь в мастерство». Шестое. «Никогда не говорить: „У меня не получилось, поэтому я не принес“. Задания нужно приносить всегда». Седьмое. «Научиться самим ставить себе оценку, исходя из выбранных нами критериев».
На страницах «Курса» во время занятий случаются всякие коллизии. Студенты радуются, впадают в ступор, изумляются, плачут. Крымов ликует, когда кто-то из них придумывает что-то стоящее и необычное, ужасно ругает за лень или невежество и тут же страшно расстраивается сам. Их близость, их общность, родственность их мастерской очевидна.
В своих рассказах, как когда-то Эфрос на репетициях, Крымов немного впускает ребят в свою жизнь, упоминая жену Инну, сына Мишу в младенческие годы, бабушку, недочитанную еще книгу, встречу с каким-то человеком. Он вспоминает историю своего рождения: «Не знаю, я рассказывал?.. Я родился благодаря статье в газете „Правда“ о том, что врачи-убийцы — это ложь. Врачи-убийцы были евреями, и это был разгар антисемитской кампании. И вот Сталин умер, и в „Правде“ появилась статья, что отбой. То есть мое появление на свет случилось благодаря концу этой кампании и смерти этого человека». Вспоминает отца: «Моего папу могли выгнать из театра, запретить ставить что-то, но вопрос ареста не стоял никогда», хотя некоторые спектакли Эфроса «коверкали и даже закрывали. Я это видел, но на себе никогда не испытал». И говорит о памяти — «это составная часть нас, даже генетическая память, не просто буквально то, что мы помним». И цитирует: «„Мы — дети страшных лет России“, как у Блока… „От дней войны, от дней свободы — кровавый отсвет в лицах есть“… (Пауза.)».
В книге «Курс. Разговоры со студентами» очень простыми, ясными, а часто забавными словами, выстраивая череду облаками зависающих над страницами образных фантомов, Крымов рассказывает о невероятно сложных вещах. «Нужно воспитывать свой ум, чтобы не быть простым, — говорит он, — иначе обычно простота рождает пустоту». И сердится, когда студенты робеют усложняться. И в раздражении отправляет их «писать заднички», «рисовать павильончики», «ставить пуфики» — играть по кондовым правилам. И в гневе выскакивает из аудитории. И возвращается: «Ну, скажите же что-нибудь!»
Компактная книга в крафтовой обложке словно спланировала к нам приветом из прошлого, где «так хорошо мы плохо жили». Но вся она устремлена в будущее, наполнена светом. Даже когда читаешь там про больное и страшное, не отпускает острое ощущение счастья, потому что вроде как оказываешься в кулисах на репетициях сразу множества разных крымовских спектаклей, и этот театр побеждает реальность, и почему-то кажется, что непременно все будет хорошо. Спасибо за надежду.
Ноябрь 2023 г.








Комментарии (0)