Х. Левин. «Крум».
Камерный театр Малыщицкого.
Режиссер Петр Шерешевский, художник Надежда Лопардина

Трое нелепых чудаков, записных неудачников, жалких горемык — вернувшийся ни с чем из-за границы Крум, ипохондрик Тугати и молчун Шкита — сидят рядком на койке, а за их спинами громко капает в кухонную раковину вода из крана. Камера снимает трех персонажей, одновременно поворачивающих головы на звук капающей воды, и видео транслируется на стену. Этот план монтируется с другим, где крупно представлен подтекающий кран, бессильно опустивший свою головку. Физиологические ассоциации здесь явно не случайны (драматург Ханох Левин не минует в своих пьесах эту сторону жизни, наоборот — навязчиво концентрируется на ней). Троица молча смотрит, выжидает (кран, естественно, не перестает капать), снова поворачивается к публике. Трюк повторяется несколько раз. Зрители смеются, персонажи покорны судьбе и печальны… Высиживание в ожидании перемен, которые должны произойти сами собой, — кадр-символ, выражение самой сути здешних героев, пребывающих в вечной апатии. Они замерли в оцепенении на пороге жизни, которая как бы еще не началась (а на самом деле для некоторых уже скоро закончится). Они ждут.
В начале спектакля «Крум» Петр Шерешевский позволяет себе такую абсурдную, почти клоунскую сценку, нарочито «говорящую», и она срабатывает как кнопка подключения зрителя к той язвительной иронии, которой наполнен взгляд на персонажей и их жизненную философию. В дальнейшем режиссер действует более тонко и часто складывает или даже умножает разные ощущения от сцены, события, героя: злой сарказм, неудержимую жалость, невольное презрение, острейшее сочувствие. Фарсовую грубость пьесы Ханоха Левина Шерешевский не то чтобы смягчает… нет, его высказывание резко, безжалостно. Но жанр спектакля неоднозначен. Насыщенный как «тоской по лучшей жизни», так и слепой жестокостью к ближнему — мир «Крума» глубоко и безнадежно трагичен по своей сути.
Несмотря на то, что пьеса названа именем героя, здесь все практически равнозначны. По-чеховски — герой ушел, возникла группа лиц (почти без центра). Застревание в безнадежной ситуации, без будущего, изводит всех. При этом истории жизни персонажей банальны, элементарны. Мечты о взаимной любви или хотя бы удачном браке — у девушек, Теруды и Дупы, желание состояться в жизни, стать богатым и знаменитым — у Крума, надежда стать бабушкой — у его матери, желание хорошенько наесться и напиться на халяву — у семейной пары Дольче и Фелиции (они завсегдатаи свадеб, именин, поминок…). Тугати занят своими воображаемыми болезнями, и главный вопрос его бытия — когда лучше делать зарядку, утром или вечером. (Пока вопрос не решен, зарядка не делается вовсе.) Техник Тахтих по-собачьи предан Теруде, бегающей
за Крумом, Крум бесцеремонно использует любовь Теруды, если ему нужна женщина, Теруда бросает Крума и выходит за Тахтиха, Тугати женится на Дупе, которая соглашается, чтобы хоть что-то в жизни изменить… Но — на самом деле ничего не меняется, несчастье прочно обосновалось в этих местах.
«Все жду, что роман века напишется сам собой», — с некоторой гордостью, тряхнув кудрявой челкой, падающей на лоб, произносит Крум — Александр Худяков, придавая собственной лени героический оттенок. Это жизненная позиция — ничего не делать, потому что всякое деяние бессмысленно, обречено на провал. Пошлость и убожество жизни настолько всеохватны, что совершать что-то — значит лишь нелепо и жалко «трепыхаться» в этом болоте. Не каждый из персонажей способен так беспощадно формулировать, как Крум (все-таки в душе он писатель, хотя в открытом на ноутбуке файле нет ничего, кроме слова «Роман»), но почти все ощущают пустоту, отсутствие смысла жизни и мучительную бесприютность.
О Х. Левине писали, что все его герои насекомые и никого из них никогда не жалко1. Но российские интерпретации этого сложного, неудобного, вызывающе честного автора совсем не подтверждают подобное суждение. И Григорий Дитятковский в незабываемых «Потерянных в звездах» по «Продавцам резины» (Театр «На Литейном»), и Александр Баргман в «Трепете моего сердца» (Театр им. Комиссаржевской) и «На чемоданах» (Омский театр драмы), и Шерешевский в «Круме», работая с материалом по-разному, с разной степенью жесткости, пристально исследуя неприглядные душевные потемки, видят в героях людей, а не клопов. Да, в «Круме» нет «положительных» персонажей. Но они так проявлены в спектакле, что нельзя не испытывать мучительного чувства узнавания, понимания и потому — сопричастности. Они — как мы, мы как они. Тем более что живут явно где-то по соседству, в коммуналке этажом выше или ниже.
Шерешевский начисто отказывается от израильского колорита, который, собственно, и в самой пьесе не особенно проявлен. В спектакле место действия — не абстрактное «везде». Персонажи спектакля пьют пиво «Охота» (крепкое), танцуют под хиты 90-х («Зимний сон» Алсу и «Я люблю тебя до слез» Александра Серова) и, раздирая баян, истошно орут песенку из советского мультика «Бюро находок»: «Не волнуйтесь понапрасну ни за что и никогда». Да, их имена звучат диковато, но ведь почти все они у Левина не настоящие, а сочиненные с подтекстом — Крум (корка или молочная пенка), Шкита (тихоня), Тугати (моя печаль), Дупа (жопа), Тахтих (моя задница) и т. д., так что и на родине автора они не ласкают слух, а шокируют. Что-то вроде детских прозвищ, а персонажи еще и по-свойски переиначивают их (Дупа — «Дуплянский»), и это получается очень естественно, узнаваемо. Если у Левина та же Дупа в конце пьесы решает сорваться с насиженного места и уехать — работать кассиршей в супермаркете на севере (надо понимать, что такое израильский север), то ирония авторов спектакля уводит ее гораздо дальше: в Норильск. Действительно, севернее трудно найти… Вся мера отчаянности, безумия и обреченности такого бегства проявлена в названии города полярной ночи, суровых морозов и черной пурги.
Герои «Крума» маются в своем задрипанном «квартале», в замкнутом мирке, который они сами считают самым убогим местом на земле. (В этом они похожи, к примеру, на персонажей островной трилогии МакДонаха, называющих свою Ирландию дырой.) Себя самих они презирают за то, что остаются здесь, и неистово предаются демонстративному самоуничижению. Решение пространства в спектакле подчеркивает эту замкнутость, ограниченность мира стенами «панельки» с унылыми обоями в мелкий цветочек. Художник Надежда Лопардина мастерски обыгрывает неудобное, узкое, вытянутое помещение КТМ, не скрывая недостатки, но превращая их в принципиальное решение. Зрители сидят вдоль игровой площадки, разделенной надвое перегородкой с дверью и окном. Две части зеркальны друг другу — с каждой стороны есть кухонная раковина, железная койка, выкрашенные белым столы и стулья, как в кафе (сценография совмещает интерьер с экстерьером). Пространство нейтрально-светлое и, как почти всегда у Шерешевского, служит экраном для видеопроекций. Камеры постоянно снимают персонажей, операторами работают сами артисты, и в кадр, если необходимо, попадают внесценические участки за дверью, ведущей в «закулисье». Непрерывная съемка дает возможность прихотливо строить мизансцены, актер может сидеть спиной к зрителям, отвернувшись куда-то в сторону, а камера видит его лицо крупным планом, и эта картинка выводится на стену в противоположной стороне площадки. Визуальный ряд спектакля монтируется таким образом, что видеопоток на стене не совпадает с тем, что находится непосредственно перед зрителем. Многоэкранное видео создает разные эффекты: удвоения, отражения, сопоставления… Возникают рифмы и контрасты. Например, крупный план лица Тугати — Виктора Гахова, сидящего в правой части площадки, становится фоном для болтающих о нем Теруды (Надежда Черных) и Дупы (Татьяна Ишматова), находящихся слева. И это самый очевидный пример, а в целом работа с видео поражает своим сложным и умным рисунком (видео — Феодосия Варвара Рейпольская). Как и в других работах Шерешевского, например в «Небе позднего августа» (Омский театр драмы), восприятие спектакля становится осознанным процессом, и это подчеркивает условную природу зрелища — при абсолютной правдивости актерского существования.
Условность (то ли театральная, то ли киношная) открыто внедряется в действие. Ближе к финалу спектакля умирающего Тугати привозят на берег моря, чтобы он в последний раз увидел закат. Шум прибоя имитируется пересыпанием крупы в тазу (Крум осторожно наклоняет туда-сюда таз прямо над ухом друга). Морской влажный ветер и брызги волн — это Шкита прыскает пульверизатором перед лицом Тугати. Проплывающий на горизонте белый пароход — бумажный кораблик двигается в кадре, его держат в руках перед камерой и т. д. В таком открытом приеме содержится несомненная ироничность, но, с другой стороны, есть нечто наивное и трогательное в попытке героев создать для несчастного приятеля рукотворную иллюзию вечера на побережье. С другой стороны, когда Доктор Швойген (Светлана Грунина) медленно прокатывает игрушечную машину скорой помощи по неподвижно лежащему на полу Тугати и сама же сосредоточенно снимает этот процесс на камеру, возникает эффект игры неких высших сил с человеком, который противостоять и бороться не в состоянии. Тут наивность открытого приема становится жутковатой.
На большой сцене видеопроекция актерских лиц дает возможность увидеть нюансы мимики и выражение глаз, не всегда угадываемые зрителям дальних рядов партера или балкона. В маленьком зале театра Малыщицкого артисты находятся в метре от публики, но тем более интересно сопоставлять «живое» лицо и его экранную ипостась. Камера как будто документирует реальность, но получается — благодаря игре света (Юрий Соколов), особым ракурсам, рамке кадра — кино художественное.
Печаль и робкая надежда Тугати—Гахова проявляются на долгих крупных планах, однако во второй части спектакля лицо героя, снятое чересчур близко, кажется более одутловатым, покрасневшим, воспаленным, чем оно видится из зала (болезнь, которую Тугати себе насочинял, возникла в реальности). Погруженный то ли в самосозерцание, то ли в наблюдение за остальными молчаливый Шкита (Антон Падерин) на экране существует загадочно, его лицо притягивает взгляд. О чем он думает, этот почти незаметно присутствующий на сцене человек, куда ведет его процесс осмысления происходящего? Как мы узнаем в финале — к решению уехать отсюда. Без всяких надежд, налегке, с разбитым сердцем, но все-таки — подняться со стула и броситься вон. Сочиненное для этого героя стихотворение про океаны, которых на самом деле нет на свете, напоминает абсурдистскую детскую поэзию Олега Григорьева («если были б океаны, в мире соли б не осталось и воды бы было мало, как тогда б варили суп?») и транслирует горькую тоску по недостижимому прекрасному миру где-то «там». Стихотворение свое Падерин читает, глядя в камеру, и этот прием, не раз примененный в спектакле, работает как мощный магнит для зрителя. Хотя никто из персонажей и так не врет, все искренне говорят гадости друг другу, признаются в нелюбви и всяких мерзостях, но сказанное в объектив становится буквально откровением. «Пустота. Пустота», — повторяет Крум, смотря прямо в камеру, и слово проникает в мозг, ранит.
Обнажением приема «кинофикации театра» становится важный момент спектакля, объединяющий всех — героев, дружно отправившихся в кинотеатр и севших в первый зрительский ряд, публику КТМ, которая оказывается по одну сторону с артистами. Ханох Левин написал монолог для Крума, который в эту минуту и вправду писатель, художник, проницательный и честный (Марк Сорский перевел этот текст стихами).
Теперь — крути кино, механик,
Пусть этот фильм нас зачарует,
Пленяя музыкой волшебной,
Веселый, красочный и легкий…
…А мы, вцепившись в подлокотник,
Глядим на серый лучик света,
В нем утопить пытаясь горе,
Невзгоды, оскорбленья, беды…
Камера двигается вдоль ряда, снимает актеров, смотрящих вверх, как бы на экран, и чуть подсвеченные голубоватым отблеском лица завораживают. Никто ничего не наигрывает, не старается «изобразить», но содержательность присутствия в кадре поражает.
Актерские работы в спектакле Шерешевского вообще очень сильны. В КТМ сложилась не просто талантливая труппа, но компания чутких друг к друг партнеров, тонко воспринимающая режиссерский стиль. Условия существования на площадке сложны: близость к зрителям, постоянно следящая камера, необходимость работать и технично, и естественно — все это артистам удается не просто преодолеть, но сделать своей «фишкой», мастер-классом современной игры. Персонажи разработаны с той мерой детализирования, какая необходима для общей композиции, и если героям нужно появляться эпизодически, то их портреты выполнены отчетливыми резкими штрихами, а если у персонажа длинная непрерывная линия действия, то его обрисовка более «растушеванная».
Карикатурность, сгущенность красок оставлена на долю парочки героев «пришлых», не здешних: Светлана Грунина и Максим Шишов появляются в ролях Цвици (одноклассницы Дупы, давно покинувшей квартал) и ее сексуально озабоченного бойфренда Бертольдо (говорящего только по-итальянски), они же создают маски Доктора Швойгена и Санитара — существ, уже почти лишенных всего человеческого, роботизированных. Пародийно гламурная блондинка Цвици в ярко-розовом (цвета фуксии) платье и таких же босоножках, с нарисованными пухлыми губами и манерным (а-ля мааасковским) говором приносит с собой «запах далеких мест», как называет Крум аромат ее духов. Все та же мечта о несбыточном, о том, что далеко и недостижимо… Розовая Цвици, розовый Бертольдо и розовая детская колясочка с машинкой для производства счастья — так пришельцы называют аппарат для приготовления сладкой ваты, которой они готовы угостить присутствующих по случаю помолвки Дупы и Тугати. Так понятие «счастье» опошлено и снижено до материального воплощения в виде палочки с белой субстанцией, которую можно облизывать и думать, что счастлив. Что еще можно сделать для обретения счастья? Живущие в долгом и крепком браке (держащемся на постоянстве взаимной тяги к выпивке и обжорству) Фелиция и Дольче просят Доктора вколоть им вакцину счастья и подставляют голые задницы для укола. (Подумав, к ним присоединяется Шкита, и камера, конечно, фиксирует попы, приготовленные для «осчастливливания».) Высокое оборачивается низким, мечта опошляется, но в этом гротескном перевертыше не столько осмеивается, сколько обнажается — в том числе и физически — искренняя тяга человека к недоступной ему сфере. Ольга Богданова и Андрей Зарубин с юмором, точно и выразительно существуют в ролях Фелиции и Дольче, их семейный тандем с вечными оскорблениями и вечным же сюсюканьем очень «ханохлевиновский» (можно вспомнить похожую пару Пшоньяка и Так Себе в исполнении Сергея Бызгу и Маргариты Бычковой, «Трепет моего сердца» в Театре им. Комиссаржевской) и очень живой, узнаваемый. Когда люди привязаны друг к другу чем-то большим, чем привычка, — это какая-то обреченность и дикий страх остаться в одиночестве, драматично понятые и сыгранные.
Актерские дуэты в «Круме» контрастны, но и в чем-то главном подобны — все они несут печать вынужденности сосуществования, дискомфортной и провоцирующей на жестокость близости. Вот взаимное мучительство Крума и его матери, бесконечные бессонные ночи в душной квартире под оглушительное тиканье часов, упреки и попреки, доводящие до исступления и желания убить единственного родного человека (Крум в ярости пытается придушить мать подушкой, лишь бы она заткнулась). Светлана Балыхина играет женщину, иссыхающую от тревоги за сына и разочарования в нем, отказывающую ему в итоге в праве на надежду: «В этом мире для тебя игрушек больше нет!» Это страшная сцена, их последний разговор на пепелище всех устремлений и мечтаний. После него Крум уходит из дома беспробудно бухать, и мать умирает без него. О смерти близкого сообщает самый далекий: муж бывшей девушки, Тахтих (Даниил Иванов в этой роли тактичен и серьезен, при всей нелепости покорного воздыхателя Теруды).
Теруда Надежды Черных в начале полна противоречивых, но сильных порывов. Она злится из-за собственной слабости к Круму, из-за готовности отдаться ему по первому зову, она напивается с Дупой и бесится в одном белье перед зеркалом, сетуя на свою большую задницу (хотя задница в полном порядке), она мечется от одного мужчины к другому. Ее женское естество ищет любви, ласки, эмоций. После яростного соития с Крумом, когда кажется, что Теруда буквально пожирает мужчину, лежащего на ней, как будто не он ею овладевает, а она — им, героиня кардинально меняется. Черных играет очень смело и очень сильно: ее Теруда, выйдя замуж за Тахтиха, гаснет, становится каким-то зверьком. Она лежит на койке, раскинув ноги в лосинах, жадно грызет сушки и потирает свой беременный животик, потом, не слушая душевных излияний подруги, засыпает и начинает храпеть. Это превращение сыграно бесстрашно.
Татьяне Ишматовой также в высшей степени присуще актерское бесстрашие. Ее хрупкая, миниатюрная, кромешно одинокая Дупа — эмоциональный центр спектакля (девушка представляется «Дупа полная», намекая на смысл имени и характеризуя жизненную ситуацию). Еле таская тяжеленный баян, она громко распевает частушки, изо всех сил пытаясь «сделать праздник» на невеселой свадьбе Тахтиха и Теруды. Решается сойтись с пожилым, вечно жалующимся на болезни Тугати, не полюбив, а лишь пожалев его, проникнувшись его робкой нежностью… Виктор Гахов сыграл самого трогательного персонажа, не поддавшись искушению «пересластить» образ. Безнадежность его мечты о счастье понятна изначально, настолько он мешковат, грузен, малоподвижен и неромантичен. Желание жить, внезапно проявившееся перед самой смертью, искренний, душераздирающий призыв к Дупе, к Круму, ко всем, боль от последнего взгляда на солнце, море, людей — слова бессильны описать, как это сделано.
Вообще в мелочах, которыми насыщен спектакль, есть невероятная точность. Детали крошечные, но о них помнишь и думаешь еще долго. Вот например: Дупа — Татьяна Ишматова, входя в «кафе», сразу идет к столику, за которым сидит Шкита, не замечая сидящего в уголке и ждущего ее Тугати. (Этого нет у Левина, в пьесе Тугати в кафе один, Дупа не может перепутать его с другим.) И в том, как она решительно направляется к Шките, как смотрит на него, как он отвечает ей взглядом, — выражено все то, что не случилось. «Счастье было так возможно, так близко»? Кто знает… Несовпадение. Не судьба. Дальше уже неважно, каков Тугати, все равно он «не тот». И Дупе остается лишь накручивать себя, накачиваться пивом и внезапно для всех, включая ошарашенного Тугати (а зрители просто ахают), отчаянным резким жестом скинуть с себя платье, оставаясь беззащитно обнаженной. Тело девчонки-женщины, прекрасное и нежное, но… «невостребованное». Тугати лишь испуганно смотрит в лицо Дупы, а его руки, которые она кладет себе на ягодицы, остаются неподвижными.
И еще одна подобная «мелочь». Крум просит розовую Цвици, улетающую в Лос-Анджелес, поцеловать его на прощанье, и она снисходит к его просьбе. Без всяких эмоций. Но после поцелуя у героини Светланы Груниной есть секундная оценка, крошечная остановка в ее ровном, уверенном беге по жизни. Она задерживает взгляд на Круме, словно вдруг по-настоящему его увидела, убедилась в реальности его присутствия — «человека определенного типа», лузера, неудачника, пропащего бедняги. На долю секунды она поверила, что несчастье таки существует. Этот неприятный инсайт угадан режиссером и актерски исполнен блестяще.
Александр Худяков создает своего Крума, аккумулируя опыт ролей чеховских (писатель-неврастеник Костя Треплев), достоевских (пожираемый гордыней и комплексами Ганя Иволгин) и множества современных надломленных, внутренне руинированных героев. Артисту замечательно удается создать характер одновременно насыщенный подтекстами и стертый, мнимо значительный и по-настоящему болезненный, искренний и неприятный, вызывающий смутные разноречивые чувства. Его Крум — неповзрослевший мужчина 38 лет (выглядящий намного моложе), мыслящий, но злой, чувствительный, но не имеющий сил любить и быть великодушным, — человек рефлексирующий, живущий в нынешнем времени и понимающий всю безнадежность и безвыходность этой жизни.
Почему, отчего?.. Ответы не формулируются, но ощущаются. Ужас бытия-в-никуда распространяется со сцены в зал. Судорожная попытка Крума—Худякова открыть внезапно показавшуюся запертой дверь — знак катастрофы, настигшей героя, метафора лобовая, но работающая. И тут же дверь открывается. Спектакль завершается как бы на полуслове, на каком-то невнятном бормотании героя, убеждающего себя в том, что он вырвется отсюда. Финальное растворение в серой мгле действует сильнее всех запертых дверей. Выход вроде бы есть. Но — нет.
Сентябрь 2023 г.
1 См.: Борухов Б. Л. Аппендицит без наркоза // Иерусалимский журнал. 2002. № 11. URL: https://new.antho.net/wp/jj11-b0rukhov/ (дата обращения: 16.09.2023).













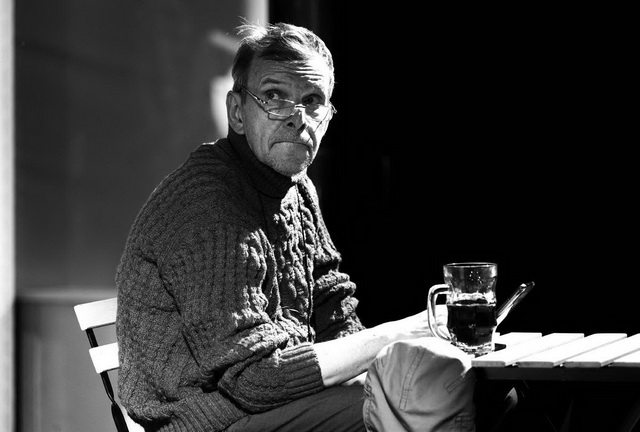



Комментарии (0)