Ленинградский Камерный музыкальный театр. Открытие — июнь 1987 г. спектаклями: "Игра о Робене и Марион", комедия А. де ла Аля; "Верую", опера В. Пигузова; "Рита" и "Колокольчик", оперы-буфф Г. Доницетти; "Соколо", комическая опера Д. Бортнянского; "Дама из Монте-Карло", "Человеческий голос", монооперы Ф. Пуленка.
Кто не знает, что такое опера? Громко, с пафосом поют-спорят двое. Женщина в длинном бархатном платье с трагической заломленными руками. Перед ней на коленях мужчина с густыми бакенбардами. Причем не просто на коленях — с далеко отброшенной левой ногой. А где-нибудь в уголке сцены, на белом резном столике, небрежно кинут черный цилиндр. Это знают все, это — из оперы "Евгений Онегин".
Мизансцена-штамп, оформление — стереотип — традиция, обернувшаяся рутиной. Традиционность, обманувшая зрителя. Он, как и положено, пришел в театр, чтобы прожить и осмыслить драму героев. Ему же предлагают послушать, как оркестр и певцы озвучивают партитуру, и посмотреть, как режиссер и художник иллюстрируют её. Мысль и воображение не "зажигаются", даже попав в такой эмоциональный поток, как музыка Чайковского, Верди или Бизе. Зритель уходит — больше он в оперу не придет.
Таких "традиционных" театров в Ленинграде три. Три вариации на одну и ту же картинку с цилиндром: в Кировском, Малом, Оперной студии. Дублирование репертуара, удручающая вторичность постановочных приемов. Прямолинейное следование традиции сделало эти театры назойливо одинаковыми и одинаково нелюбимыми. Необходимость в иной оперно-театральной системе стала очевидной. Необходимость в коллективе, способном выйти из заклятого круга оперности и подняться на уровень современной театральной культуры. Мы живем в доброе время. Он нужен — и он появился: Ленинградский Камерный музыкальный театр.
Во главе его встал Юрий Александров, и это естественно: "Колокольчик", "прозвеневший" в Ленинграде, Кишеневе и Куйбышеве, красноярский "Дон Прокопио", минские "Дон Паскуале" и "Сказки Гофмана" — спектакли, самим тоном общения с залом преодолевшие официозную оперность. И Камерный музыкальный с первого дня зажил не по привычно оперным, а по театральным законам.
Новый театр открылся пятью премьерами и двумя возобновлениями. Никакой скидки на начало. Многообразие и размах, для оперы удивительные.
Репертуар академических театров составляется обычно по принципу накопления музыкальных шедевров. Отсюда бесконечные повторения. Но существеннее другое. Это принцип "глух" ко времени, он игнорирует важнейший — театральный — критерий отбора: интерес современного зрителя-слушателя к теме произведения. Главное — партитура, спектакль оказывается приложенным к ней.
В основе репертуара Ленинградского Камерного — не самоценность музыкального произведения, а возможность выхода к зрителюсовременнику. В философско-диалектическом "Верую" и ажурнопсихологических пуленковских монологах уровень проблемы сегодняшний, герой современный. В "Колокольчике" и "Рите" зрителя вовлекают в игру, сюжет и режиссура предполагают его действенное участие в спектакле. В "Соколе" Лицо от театра, в "Игре о Робене и Марион" театральный Черт — связующие персонажи, они непосредственно общаются с залом. Однако все выбранные партитуры музыкально безупречны. Нет смысла давать оценку музыке Доницетти или Пуленка, Бортнянского или де ла Аля — его пастораль прелестна самой своей наивной архаикой. Но и новейшая опера Пигузова — конфликтная музыкальная драматургия с яркими темами, мощными характерами.
Гармония серьезного и смешного, проблемного и развлекательного — как непохоже это на "традиционную" оперу, репертуар которого скучно однообразен, жанрово исчерпан мелодрамой.
Выбирая великие партитуры "за" их музыку, оперные театры остаются обычно равнодушными к литературе. Спетое слово, плохо написанное, ужасающее переведенное — просто неграмотное — сделалось в опере нормой. Его стараются скрасить музыкой, затуманить нечетким произнесением. Но, примитивное, оно становится еще одним аргументом "против" оперы.
Ленинградский Камерный музыкальный театр подумал и об этом. Либреттист пуленковских драм — Ж. Кокто: имя говорит само за себя. Либретто "Верую" создано Ю. Дмитриным по рассказу В. Шукшина. В авторский текст, частично дописанный либреттистом ершистым шукшинским слогом, органично вошли стихи С. Есенина. И не случайно: произведение это о силище духовной, русской, неприкаянной. Есенинский стих здесь — ее символ и тоска по ней. Либретто доницеттиевских опер "придуманы" Димитриным специально для постановок Александрова и переводят избитые, несмешные сегодня ситуации итальянской комической оперы в современную шутку-фарс. Литературно современный "Сокол", но иначе. Либретто Ф. Лафермьера вошло в новую пьесу, где импровизационно, пародийно "восстанавливаются" традиции русской комической оперы — автор этой версии Ю. Александров. "Игра о Робене и Марион" в изложении Димитрина — тоже новая пьеса. Комедия де ла Аля оказалась внутри нее, а главным героем стал некий театральный Черт. Это он выдумал всю оперную вампуку и теперь нахально-скептически демонстрирует ее зрителю.
Во всех пьесах-либретто найден литературный ход. Везде точное слово преодолевает всегдашнюю оперную смысловую невнятностью. От грамотного языка ниточка тянется к раскрепощенному произношению — дикции. От дикции — контакту со зрителями.
И все же властвует в опере музыка. Она омывает текст, раскрашивая слова своей эмоцией и обогащаясь его конкретным понятием. Музыкасодержание, музыка-действие: это и есть оперная драматургия. Но "традиционный" театр еще путает сюжет с драматургией, ищет мизансцену в либретто. В такой режиссуре музыка отторгается от действия и начинает существовать по иным законам — концертным. В таком спектакле все отдельно: пение, игра, рисованный задник. Все распадается, и обреченным оказывается главное — оперный синтез. А без него нет полноценного музыкального спектакля.
В режиссуре Камерного театра источник художественного решения — музыкальная драматургия.
…Коротенькая корявая мелодия трубы уперлась в "кляксу": тревожно повисла у клавишных малая секунда. Завыл тромбон и стих. Потом в оркестре что-то грозно закрутилось, захрустело, и потянулась новая мелодия, теперь у флейты-пикколо: свистящая, повизгивающая, срывающаяся. Ее сменили размашистые аккорды, и вспыхнул яркий свет. Но лишь на мгновенье унял он боль, что успела музыкой разлиться по залу. И вот уже мечется в комнате-клетке, злобно завывает невысокий коренастый мужик с испитым лицом, ищущими глазами. За надрывным воем — тоска неприкаянна, щемящая. Слово свободная энергия души бродит и ищет выхода: то кулаками на стену обрушится, то резанет угловатоотчаянным: "Клен ты мой опавший". То вдруг из всего этого хаоса музыки, воплей, метаний возникает, неловко складываясь, стройный танец. И так все: энергия маяты душевной будет в спектакле не рушить, а созидать, собираясь в лирические пики действия, — песню, вокализ, танец.
Музыка — характер — пластика — мизансцена — актерская интонация, тесно, цепочкою связаны между собой, становятся основой оперного синтеза. Два интонационных строя музыки "Верую" связаны с резкостью, взвинченностью Максима /С. Ткаченко/ и размеренной разухабистостью Попа /В. Сельдюков/. В них режиссер Ю. Александров "слышит" характеры: мятущийся, пытливый и мудро спокойный. В них "видит" пластику: рваную, порывистую и нерасторопно-широкую. Пластика диктует мизансцену. В крохотном зале, крупным планом движение практически равно жесту. Ломкий рисунок сценического поведения Максима и неуклюже стихийный — Попа подводят певцов к вокальноактерской интонации. Не к пению прибавляется роль, как это принято у актеров оперы, а из роли рождается пение. Из характера героя, соотнесенного с его физической манерой-повадкой, возникает вокальная речь. Максим неудержим, измучен вопросами — отсюда произнесение со срывом и болью. Поп широк и небрежен — его голос вокально "неточен": то ли нетемперированное пение, то ли говор. Характерность интонации — существо актерской игры. Цепочка замкнулась, возвращая драматическое действие в музыку.
Но пластика и интонация не исчерпывают роли. За каждым характером стоит личность. Поп — Сельдюков богатырски могуч, эпически несуетен. Максим — Ткаченко напряженно собран, словно сознательно сдерживает темперамент-стихию.

В музыке "услышана" и сценография. В рельефности музыкальных тем — выпуклость деревянной фактуры, осязаемость обшитого вагонкой пространства сцены /художник С. Пастух/. На основе музыкальной драматургии стали действенными, "заиграли" все средства театральной выразительности.
Необычная "религия" Попа — его вера в ладность и полноту земной жизни — подводит Максима к прозрению: неблагополучие очищает душу. В переключениях из реально-земного в возвышенное движется действие.
…На взволнованном тремоло ширится шаг грузных аккордов. Эмоция безудержная, необузданная растет и на кульминации переходит в устрашающе-разгульный пляс и неистовые выкрики: "Верую!" Все смешалось в отчаянно-надсадном гомоне — кажется, конца ему не будет. Но внезапно шум "расступился", и тонкой серебристой ниточкой "вытек" из него, заструился вокализ Людмилы /Н. Глинкина/. Чистый, хрупкий голос переливается, растворяясь в хрустально-волшебном звоне. Словно больное Максимово завывание обратилось в страстную, гармоничную мелодию. Она красуется, парит и в самой выси своей "уходит" в оркестр. Медленно тают разноцветные фонарики, превращаясь в прищепки для белья. Гаснет свет. Очищение отчаянием произошло. Разрывающие душу танцы принесли катарсис. Наступило умиротворение.
Танец и вокализ. Крайние точки безысходности и просветления. В их непредсказуемых колебаниях — диалектика жизни, диалектика спектакля.
Безверие — обретение веры, зыбкость — поиск опоры в самой конфликтности существования. Проблемы остро сегодняшние. Удивительно, но поднимает их именно оперный театр.
Обычная оперная режиссура собирает спектакль из разрозненных элементов. Следствие — разлад темпо-ритма звукового и темпо-ритма сценического. С одной стороны оказывается музыка, сжатая сильными долями и тактами. С другой — растекающееся, аморфное зрелище. Ритмическая адекватность музыки и действия дает динамику спектакля Александрова. В "Колокольчика" нескончаемая круговерть нелепостей, с лабишевским остроумием наверченные комедийные заварушки оплетаются хороводом гостей в белом: не то спящих, не то едва очнувшихся от выпитого. Тот же принцип ритмической организации действия в "Рите".
Звучит мягкая, кокетливая музыка, и появляется нежащаяся после сна Рита /В. Гирдюк/. В розовом воздушном наряде, привычным жестом накладывает на лицо крем. Движения спокойные, уверенные, самочувствие комфортное, интонации приветливые, "контактные". Эту ровность "разрешает" вбегающий Беппо /В. Кривонос/. Полосатый комбинезончик, лиловый бант-бабочка — не то комедийный слуга, не то герой клоунады. Мечется по сцене; напряженно улыбается Рите, избегая прямых взглядов; крестится, лишь та отвернется; испуганно косится в ее сторону, что-то невнятно бормочет. В страхе бегают глаза, вокальная речь — дрожащая скороговорка. В этот прыгающий рисунок вклинивается другой: самоуверенно-резкое, фиксированные позы; грозная музыка: в оркестре устрашающе басы, в голосе каркающие начала фраз. Щегольские сапоги, залихватски перекинутый белый шарф — это Гаспар /П. Карпов/. Весь спектакль трепещущий Беппо и воинственный Гаспар — по случайности оба "законные" мужья — будут уступать друг другу Риту. На контрапунктическом соединении сценических ритмов режиссер строит действие.
Ритм-характер. Сразу ясен принцип игры: в спектакле не будет психологии. Его герои — маски, как и подобает опере-буфф, наследнице традиций комедии дель арте. Но не успел едва наметившийся условномасочный стиль установиться, как на него обрушился поток сегодняшних остроумных режиссерских выдумок. Черты старой комической оперы размываются, смешиваясь с современной шуткой. Побитый Беппо, сердясь на Риту, учиняет расправу над "маской" — жирным кружком кальки с прорезью для рта и глаз, которым Рита прикрывала крем на лице. А дуэль на шампурах с шашлыками Рита останавливает ловким ударом "дзюдоиста", разом разгоняя обоих мужчин. Шутка — не как украшение, а как отношение к жизни — импровизированная, игровая поселяется в спектакле. А на кульминации в действие врывается дополнительная энергия — пародия. Все естественные "белькантизмы" музыки Доницетти — фиоритуры, пассажи, ферматы, — вся оперная "итальянщина" обыгрываются театрально, как пародии на шаблонные вокальные приемы.
…Беппо торжествует: Рита досталась Гаспару. Мгновенно преобразовавшись в "героя", он объявляет "арию свободы". Спускается в "яму", отбирает у маэстро палочку, замирает в ауфтакте…, но тут же передает оркестр дирижеру. Во время оркестрового вступления тихонько пробует голос: слышно арпеджио, затем недовольное бормотание. Наконец начал арию. Но только вошел во вкус, встал в напыщенную позу — неудача: поперхнулся и дал "петуха". Смутился, но постепенно овладел и голосом, и арией. Расхрабрился, на высокой ноте спустился в зал, победно "пронес" ее по проходу, бросая в публику хвастливые взгляды, вернулся на сцену и зазнайски-небрежно заметил: "Это "до". Ария окончена. Певец с готовностью раскланивается, вовлекая зал в игру, заставляя его театрально аплодировать "вокалисту" Беппо. Беспроигрышный прием: вместе со зрителем пародировать то, за что он не любит оперу. Посмеяться — и тем расположить к себе. Над оперными привычками театра подтрунивает и в "Колокольчике", и в "Соколе", и в "Игре и Робене и Марион".
Стихия театральности, праздник игры; веселые многослойные пародийные спектакли — черта режиссерского стиля Александровакомедиографа. Праздник, впрочем, не только для зрителя. И актеры спешат на репетиции к Александрову, как на праздник. Гедонистический дух царит в театре. Из легких, творческих, доставляющих радость отношений рождаются такие же легкие, импровизационные художественные спектакли.
Прямые обращения в зал, вовлечение зрителя в игру. Как неожиданно это в опере, всегда отгороженной "глухой" четвертой стеной, в традиционно неконтактном жанре, где круг общения, не достигая партнера, замыкается на дирижере. Александров неожиданно смело рушит четвертую стену и выходит непосредственно к зрителю-слушателю. Не становится препятствием к прямому общению и вечная помеха — оркестровая яма. Режиссер вместе с дирижером Л. Корчмаром не скованы этой оперной условностью. Оркестр помещается в самых разных местах. То он на сцене, и оркестранты принимают участие в действии, становятсяя актерами / "Игра о Робене и Марион" /. То размещен в верхнем ярусе и вообще не виден /"Верую"/. То находится в театральном фойе /пуленовские спектакли/. И только в операх Доницетти оркестр на своем "законном" месте. Но это — требование режиссуры, здесь ей необходимо соблюдение всех правил.
Рассчитанные на контакт с публикой, спектакли Ленинградского Камерного двусторонне отзывчивы. Зритель, сегодня пришедший в театр, обязательно корректирует их. Для этого режиссура Александрова оставляет "зазор" между замыслом и сценическим рисунком, "допуск" на актерскую импровизацию. В традиционном оперном театре — с его ставкой на спетую партию, а не на сыгранную роль, импровизация, вообще актерская свобода, невозможны. Ведь вокальная партия строго закреплена нотами. Поклонение музыке-партии порочно тем, что сужает круг творческих возможностей актера в спектакле: он выходит на сцену ради своей строчки в партитуре. А тогда и петь ее можно не от Ленского или Татьяны, а от себя. Окрасить звук характерным тоном-тембром персонажа; наделить героя качествами-интонациями; мелодикой вокальной речи сыграть его состояние — это в оперной практике пока не принято. Но только интонации, характерное пение театрально, только оно делает вокалиста актером. Камерный музыкальный театр доказывает это спектаклем "Человеческий голос".
Роль Женщины соткана Кокто-Пуленком из пауз-оценок — эмоционального накопления и музыки-реакции — выплеска. Монолог расцвечен скрытым диалогом. Чтобы он стал театрально явным, нужно действенно "развести" пение — молчание. Нужно певчески "сыграть" музыку и актерски оправдать паузы.
Режиссура спектакля /режиссер Т. Карпачева/ целиком "ушла" в работу с актером, в поиск точных душевно-вокальных красок. Проанализирован подтекст-музыка, стоящий за внешне незначащими словами. Нафантазирован неслышный — по ту сторону диалога — текст. Телефонный разговор оказался частью процесса — жизни, любви. Психологическая логика этого процесса наполнила паузы, интонационно "зажгла" пение. Голос певицы /Женщина — В. Волостных/ стал душой героини. Он чуток, им сыграны тончайшие нюансы, сплетения чувств. Мгновенная боль — вскриком; робкая надежда — волоском звука; дорогое воспоминание — тающим пиано; иступленное отчаяние — истошным фортиссимо. Голос любит и плачет, превозмогает боль и исходит в безмерности человеческого страдания. Голос действует, а не исполняет музыку Пуленка, что так заманчиво в непрерывном моно-пении. Но за психологической деталировкой не утерян общий характер. Волостных играет драму великодушия. И весь спектакль — это драма великодушия, драма доброй женственности.
В. Волостных, С. Ткаченко, В. Сельдюков, В. Гирдюк, П. Карпов — концертные вокалисты, в спектаклях Александрова они впервые вышли на театральную сцену. А рядом — ведущие солисты Кировского, Музкомедии, Оперной студии. Такой "странный" ансамбль — особенность Ленинградского Камерного. У него нет постоянной труппы. Артисты собираются здесь на спектакль. Многие молодые театры ищут сейчас новые формы работы — Камерный музыкальный такую форму для себя нашел. Договорная система делает театр мобильным в выборе актера на роли, а значит — гибким в репертуаре. Она стимулирует творчество, спасает от халтуры.
Итак, в Ленинграде, родился театр, во всем непохожий на обычную оперу. В этом театре не послушаешь просто красивую музыку — там музыка вовлекает актеров и зрителей в действие. В этом театре не насладишься руладами любимца-премьера — там нет вокалистов, есть актеры-певцы. В этом театре не увидишь стройных петербургских колонн из папье-маше и курчавых русских берез с тряпочными листьями. Там не перепевают старые приемы, там традиция — не синоним рутине. Ленинградский Камерный музыкальный театр младенчески-молод, но у него уже есть свои хорошие обычаи: любить актера и не обманывать зрителя; творить музыкальной театр, возвращая Опере ее доброе имя.


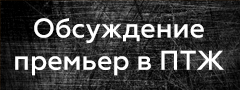






Комментарии (0)