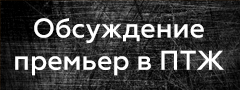Гудбай, Китти
- Премьера состоялась 25 октября 2025 года
-

Фото из архива театра
- АНО «Содружество негосударственных театров»
- ГУДБАЙ, КИТТИ!
История первой любви
По мотивам документальной пьесы Ланы Гранецкой
14+
- РежиссерЕкатерина Шихова
- ХудожникЕкатерина Гофман
- Музыкальный руководительОлег Пожидаев
- Действующие лица и исполнители
- ЕгорСергей Кривулёв
- ГеляАлександра Маркина
- НикаВиола Лобань
- ПоэтМаксим Крупский
- АртистВладимир Шабельников
- Музыканты:
- Антон Капельницкий и Олег Пожидаев
- Ведет спектакль помощник режиссера Алла Савенкова