А. П. Чехов. «Палата № 6». Малый драматический театр — Театр Европы.
Пьеса и постановка Льва Додина, художник Александр Боровский
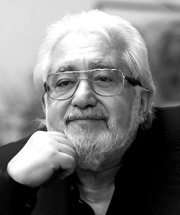
Лев Додин выпустил спектакль по мрачнейшей чеховской повести в канун своего юбилея, такой вот сам себе преподнес подарок. Праздник получился без фейерверков и брызг шампанского. Вернее, было целое море шампанского для зрителей, пришедших на показ в сам день рождения, 14 мая, угощали абсолютно всех! Но это в фойе, а на сцене — аскеза. Можно сказать — пост, в смысле — никаких излишеств, ничего жирного и легкоусвояемого. Кажется, режиссер ставит свой собственный эксперимент, бросает сам себе вызов — смогу ли сделать спектакль, отказавшись от… (далее — список того, что в минусе), проверяя пределы возможного, как будто отрицая выразительность, визуальную эффектность, занятность истории, удобство восприятия и так далее.
На самом-то деле, я уверена, Додин ни о каких экспериментах не думал, а ставил так, как ставилось, как чувствовалось и мыслилось. Не хочется поминать затасканную цитату о «неслыханной простоте», в которую впадают, как в ересь, но при этом трудно не сопоставить роскошь, избыточность чеховской же «Пьесы без названия» тридцатилетней давности — вот где как раз были и фейерверки, и шампанское, и бассейн с водой, и толпа артистов с музыкальными инструментами — и крайнюю внешнюю скупость, минималистичность нынешней работы. Меня завораживает эта еретическая «Палата № 6»! А что до мрачности… Пять лет назад Алексей Бартошевич написал: "…переполненное отчаянием творчество позднего Додина одновременно заключает в себе преодоление трагической безвыходности, несет в себе некий свет. Этот свет — в самом искусстве Льва Додина, в художественной гармонии, если не сказать, совершенстве многих его созданий »1.
Соглашусь — и отчаяние (еще более черное), и безвыходность, и свет искусства. Все так. «Палата № 6» — театральное создание, не скрывающее своей филигранной сделанности, поражающее продуманностью и соразмерностью всех элементов формы (ритм и архитектоника действия, система ролей, цвет и свет…). Невероятно горькое высказывание о человеке и его жизни.
Пока зрители рассаживаются в зале, сквозь людской гул внезапно начинает пробиваться слабый голосок шарманки, однообразно поднывающей где-то за сценой. В негромкой, все кружащей, и кружащей, и кружащей на коротком отрезке мелодии столько безнадежной тоски… Так и видится тонущая в грязи улица, покосившиеся облупленные заборы, пыльные лопухи, тощие собаки, низкие облака. Ничего этого, разумеется, нет на сцене, как нет вообще никаких подробностей унылого, гадкого, смрадного больничного быта, во всей своей омерзительной плотности возникающего на страницах чеховской повести, но как только услышишь это шарманочное нытье — сразу воображение дорисовывает картину. Иного звукового сопровождения в спектакле не будет, только бесконечный повтор одной и той же музыкальной фразы (музыка Мордехая Гебиртика). Да еще храп спящего у портала сторожа… В этом тоже аскеза.
Привычная для МДТ чернота сценической коробки заслонена желтой стеной, собранной из неплотно пригнанных щитов, с нарочито не зафактуренными швами меж досок, с криво обглоданным низом. Александр Боровский выстроил фасад желтого дома с узкой белой дверкой под хлипким треугольным козырьком — какую-то пародию на желто-белые казенные здания столицы Российской империи. Старые ванны, сваленные во дворе, горбятся ржавыми покатыми «спинами». В тех, что стоят как положено — то есть не перевернуты вверх дном, — можно прятаться от сторожа, от санитаров, от внешнего мира как такового, ныряя с головой и скрываясь от взглядов (пациент Громов проделывает это неоднократно, иногда от страха побоев, но больше — в знак протеста). Больничный двор засыпан снегом, и свет Дамира Исмагилова, отражаясь от белого пола и желтого задника, словно набирает яркость. Когда доктор Рагин, ловко присев с книгой в руках на край ванны, зачитывает Громову хрестоматийные сентенции Канта о звездном небе и моральном законе, свет разгорается все сильнее и сильнее и отчего-то становится страшно. На желтом фоне с подчеркнутой выразительностью прорисовываются прямые линии и округлые завитки решетки, сквозь которую зритель смотрит на героев «Палаты № 6».
В повести Чехова флигель, в котором живут душевнобольные пациенты, отделен от внешнего мира серым забором с гвоздями, торчащими остриями кверху. «Унылый, окаянный вид». У Додина и Боровского — не то. Зеркало сцены отделено от зала коваными решетчатыми воротами, настоящими, крепко спаянными в кузнечной мастерской А. Гордеева (сообщает программка). Железные прутья перевиты цепями с тяжелыми висячими замками, которые несколько раз за время спектакля проверяет, поглаживая и «взвешивая» в ладонях, тучный сторож Никита (Павел Грязнов). Решетка заржавела (светом подчеркнут рыжевато-бурый цвет металла), но по-прежнему очень крепка, несмотря на то что некоторые завитушки отвалились. Она устоит под любым натиском, и слабым рукам пациентов, что в финале трясут ее отчаянно, с безнадежным усилием, не сломать и не раскачать эту ограду, она тут навечно. Герои живут в прямом смысле за решеткой. Они всегда там, внутри. Подходят к ограде, смотрят оттуда на нас. Лица, приближенные к прутьям, выглядят страшно в бьющем снизу свете. Доктор Рагин — Сергей Курышев единственный, кто появляется по эту сторону решетки. Изначально он снаружи, выделяясь и своим элегантным черным пальто на фоне жалких обносков остальных, и свободным движением вдоль сцены, ведь другим здешним обитателям, как пациентам, так и больничной обслуге, даны только четко выверенные траектории движения, небогатый набор жестов и шагов. Но скоро и он, как все, окажется за решеткой, войдя внутрь. По сюжету, по быту Рагин приходит в больницу ежедневно и потом, конечно, уходит обратно домой. Но театр говорит со зрителем на пластическом языке и без слов сообщает: доктор на наших глазах вошел туда, откуда выхода нет…
Это подтверждается простой и совершенно обескураживающей мизансценой. В разговоре с пациентом Иваном Дмитриевичем Громовым, бывшим судебным приставом, страдающим манией преследования, Андрей Ефимович Рагин предлагает ему, раз уж он так хочет, уйти из палаты № 6 на свободу. Врач веско требует: «Никита, отвори!» Сторож с тупым недоумением смотрит на Рагина, но ослушаться не может и, гремя цепью, отпирает замок. Железная калитка растворена, Громов подходит к выходу на волю и… замирает на пороге. Долго, не по-театральному долго стоит, глядя на мир за пределами его тюрьмы, потом лицо его кривится от рыданий. В отчаянье, в тоске и муке сердечной кричит Иван Дмитрич — Игорь Черневич: «Что же делать? Что же мне делать?»
Додин сконцентрировал действие «Палаты» вокруг двух героев, Громова и Рагина. Их бесконечный диалог — несущая ось всей конструкции. Это развернутый во времени диспут, то жаркий спор, то вдумчивый обмен размышлениями и наблюдениями за человеческой природой. Актеры существуют подробно, психологически глубоко, ведут непрерывные линии ролей. Наблюдать за этим сложным, насыщенным смыслами общением — основная задача зрителя, нужно вникать в суть дискуссии, следить за обменом тезисами, вдумываться и вслушиваться в длинные речи. Остальные персонажи созданы иначе — это скорее маски, чем характеры. Считанное количество реплик, текст звучит афористично. Выстроена четкая система выходов этих персонажей — выдвижения на авансцену и удаления, как будто это не люди, а стаффажи на фурках. Артисты очень выразительно существуют в этой сверхсложной задаче — вкладывают в минимальное время-пространство именно столько содержания, сколько требуется, никто не жмет, все идеально соблюдают меру. Чего стоит, например, трехглавая фигура докторов: Станислав Никольский, Олег Рязанцев и Никита Сидоров играют фактически одно существо с циничной улыбкой, трижды повторенной на самодовольных рожах. («Хирургическая рожа» — яростно выплевывает эти слова Рагин, имея в виду не только конкретную болезнь, но и нечто большее.) Троица является, чтобы заточить Андрея Ефимовича в палату № 6, в ту же самую больницу, где он столько лет врачевал — сначала с усердием, потом лениво, а после и совсем никак.
Жизнь группы пациентов полностью подчинена ритуалу. Сначала появляется санитарка Дарьюшка — Татьяна Рассказова, надсадно гремящая жестяным ведром, потом по очереди через узкую дверь на сцену проталкиваются больные. Умываются из ведра, вытираются одним и тем же мятым полотенцем, свисающим с плеча Дарьи. Выстраиваются вдоль решетки, ритмично выдают каждый свой небольшой набор фраз — на идише что-то печальное вещает старик Моисейка (Михаил Самочко), языком жестов старается поведать свое знание о жизни Немой (Никита Тимербаев), Мещанин (Владимир Захарьев) робко делится небывалой радостью — он награжден очередным орденом, и звучат еще несколько отчаянных негромких выкриков Офицера (глухой голос Сергея Козырева дрожит от гнева). Отрешенное, музыкальное звучание этих реплик подобно повтору короткой мелодии шарманки, безысходно кружащей на одном месте.
В одной из сцен Громов последовательно «переводит» непонятный доктору Рагину язык пациентов, сообщая детали их жизни и судьбы. Иван Дмитрич сочувственно, тепло смотрит на сирых своих сокамерников, тогда как Андрей Ефимович — свысока и как бы внезапно их разглядев, именно с помощью Громова, который «перевел» их в статус человеков из разряда просто «больных».
Перед нами ведут мировоззренческий спор два философа. Кажется поначалу, что они яростно противостоят друг другу, ведь один — за жизнь с ее теплой кровью и нервами, с острой реакцией на боль и всякое раздражение, другой же — за сияние чистого разума, за презрение к страданию и боли. Громов—Черневич негодует на Рагина, который с демонстративным легкомыслием говорит о том, что мыслящий человек всегда доволен и ничему не удивляется, и, конечно, симпатия зрителя на стороне сумасшедшего мудреца, ведь он и искренен, и чувствителен, и не высокомерен, как доктор. Но Курышев ведет тонкую игру, его герой по-настоящему драматичен и переживает перед нашими глазами мощную перемену. Убедительно звучит его сдержанно страстный, исполненный горечи рассказ о том, как он пытался биться с системой, об изматывающей работе врача с десятками больных в день, о том, как труд без какого-либо душевного удовлетворения выжег его душу, полностью опустошил и в итоге обездвижил, превратив в духовного инвалида, отказавшегося от служения, да и от жизни вообще. На самом деле спор у Громова и Рагина, при явной разнице их позиций, — отчасти мнимый. Он напоминает дебаты Вершинина и Тузенбаха, ведь оба говорят о важном, о сущностном, не о чихартме и черемше (об этом до хрипоты и отвращения друг к другу спорят Соленый с Чебутыкиным), а о смерти и бессмертии, о смысле жизни, о человеческом предназначении в этом мире, о добре и зле. Порой в пьесе на двоих разделен чеховский текст, относящийся к Рагину, это его внутренний монолог, объективированный авторским голосом. Так что герои иногда говорят параллельно, вторя друг другу, словно это две стороны одной личности, внутри которой выгорание, депрессия и отрицание смысла всего сущего борются с верой… Во что? Наверное, в то, что не все бессмысленно.
Пьеса строится Додиным по-чеховски — монтажно. Пускается в патетические словопрения Рагин, но тут как раз добрая Дарьюшка—Рассказова выбегает из-за стены и предлагает ему выпить пива, думая услужить (так в пьесе «Дядя Ваня» в ответ на речь Астрова о лесе работник подносил ему рюмку водки).
«Бальзак венчался в Бердичеве» — эту совершенно никому не нужную информацию вычитывал доктор Чебутыкин из газеты, с которой не расставался в пьесе «Три сестры». Примерно так — как реминисценцию на чебутыкинские газетные «анекдоты» — я сначала восприняла два сообщения, зачитываемые доктором Рагиным пациенту Громову в ответ на его вопрос «а что в мире делается». Но, похоже, тут не только и не столько анекдоты. «Книга Вересаева „Записки врача“ вышла в Лондоне в переводе на английский язык… Книга встречена сочувственным отзывами в печати» — это факт первый, и понятно, почему Рагин считает это событие из литературной (и медицинской) жизни важным. Факт второй: «Максим Горький закончил новую драму и сейчас работает над окончательною отделкою некоторых деталей. Как сообщают петербургские газеты, М. Горький живет сейчас в Сестрорецке». Премьерный зал грохнул смехом, когда Сергей Курышев со значением, после паузы, выговорил название курорта, а Игорь Черневич молча уставился на него… Такого текста в повести нет и не может быть. В пьесе Льва Додина цитируется газета «Новости дня» за март 1904 года. Автор спектакля резко переносит действие из 1892 года, когда была написана «Палата», в последний год жизни Антона Павловича и вкладывает в уста Рагина слова, которые мог бы произнести сам писатель — его точно заинтересовало бы в газете упоминание как Вересаева, так и Горького. Некоторыми критиками высказано предположение, что высокая узкая фигура Рагина—Курышева в черном пальто с поднятым воротником ассоциируется с самим Чеховым. Не могу утверждать, что это впрямую так, но газетные сообщения подобраны явно не случайно. Образ умирающего от чахотки, теряющего возможность дышать автора, бросающего последний взгляд на окружающую его невеселую жизнь, возникает неизбежно.
Черный силуэт Рагина, его большие кисти, производящие жесты изящные и столь неуместные в этом аду, показная беспечность в переливах интонаций — все это заряжено тревогой, ожиданием краха, слома, гибели. Раздетый до жалкого исподнего, без шапки — с взъерошенными седыми клоками волос, — бывший доктор приведен в палату № 6, как на расстрел. Босые белые ступни торчат из ванны, где лежит он, избитый, как будто снятый с креста и брошенный наземь. И если раньше мерещилось нечто беккетовское, трагикомическое в том, как высовываются головы сумасшедших философов из ванн (из мусорных ящиков «Конца игры»), то теперь трагическое побеждает. Громов милосердно закрывает глаза своему собеседнику, перед самой кончиной увидевшему белых оленей с голубыми глазами. И остается один там, внутри.
Евгения ТРОПП
Май 2024 г.
1Зарецкая Ж. Алексей Бартошевич и Дмитрий Волкострелов: К 75-летию Льва Додина // ТеатрЪ. Блог. 2019. 14 мая. URL: https://oteatre.info/dodin/ (дата обращения: 14.05.2024)
















Комментарии (0)